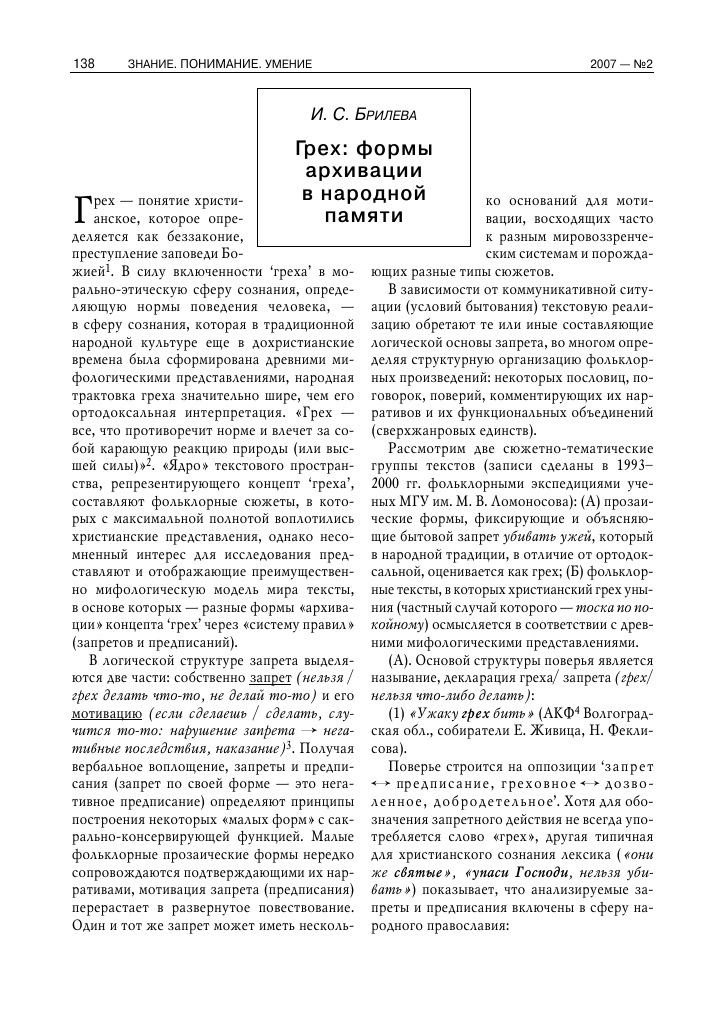Грех — понятие христианское, которое определяется как беззаконие, преступление заповеди Бо-жией1. В силу включенности ‘греха’ в морально-этическую сферу сознания, определяющую нормы поведения человека, — в сферу сознания, которая в традиционной народной культуре еще в дохристианские времена была сформирована древними мифологическими представлениями, народная трактовка греха значительно шире, чем его ортодоксальная интерпретация. «Грех — все, что противоречит норме и влечет за собой карающую реакцию природы (или высшей силы)»2. «Ядро» текстового пространства, репрезентирующего концепт ‘греха’, составляют фольклорные сюжеты, в которых с максимальной полнотой воплотились христианские представления, однако несомненный интерес для исследования представляют и отображающие преимущественно мифологическую модель мира тексты, в основе которых — разные формы «архивации» концепта ‘грех’ через «систему правил» (запретов и предписаний).
В логической структуре запрета выделяются две части: собственно запрет (нельзя / грех делать что-то, не делай то-то) и его мотивацию (если сделаешь / сделать, случится то-то: нарушение запрета ^ негативные последствия, наказание)3. Получая вербальное воплощение, запреты и предписания (запрет по своей форме — это негативное предписание) определяют принципы построения некоторых «малых форм» с сак-рально-консервирующей функцией. Малые фольклорные прозаические формы нередко сопровождаются подтверждающими их нарративами, мотивация запрета (предписания) перерастает в развернутое повествование. Один и тот же запрет может иметь несколь-
ко оснований для мотивации, восходящих часто к разным мировоззренческим системам и порождающих разные типы сюжетов.
В зависимости от коммуникативной ситуации (условий бытования) текстовую реализацию обретают те или иные составляющие логической основы запрета, во многом определяя структурную организацию фольклорных произведений: некоторых пословиц, поговорок, поверий, комментирующих их нарративов и их функциональных объединений (сверхжанровых единств).
Рассмотрим две сюжетно-тематические группы текстов (записи сделаны в 19932000 гг. фольклорными экспедициями ученых МГУ им. М. В. Ломоносова): (А) прозаические формы, фиксирующие и объясняющие бытовой запрет убивать ужей, который в народной традиции, в отличие от ортодоксальной, оценивается как грех; (Б) фольклорные тексты, в которых христианский грех уныния (частный случай которого — тоска по покойному) осмысляется в соответствии с древними мифологическими представлениями.
(А). Основой структуры поверья является называние, декларация греха/ запрета (грех/ нельзя что-либо делать):
(1) «Ужаку грех бить » (АКФ4 Волгоградская обл., собиратели Е. Живица, Н. Фекли-сова).
Поверье строится на оппозиции ‘запрет предписание, греховное дозволенное, добродетельное’. Хотя для обозначения запретного действия не всегда употребляется слово «грех», другая типичная для христианского сознания лексика («они же святые», «упаси Господи, нельзя убивать») показывает, что анализируемые запреты и предписания включены в сферу народного православия:
И. С. Брилева Грех: формы архивации в народной памяти
(2) «От их — грех бить, ужак. Ужак бить нельзя [запрет], они же святые [мотивация], а змею (гадюк) бить надо [предписание]» (АКФ 1995 Волгоградская обл., собиратели Е. Борисова, Е. Парфенова).
(3) «Ну, ужей упаси Господи, нельзя убивать [запрет]. Надо на лопаточке в балку вынести [из дома] [предписание]» (АКФ 1997 Ростовская обл., собиратель И. Брилева).
Как показывают примеры, запрет и предписание, контрастирующие в тексте, относятся к одной и той же ситуации, задавая правила поведения в ней (ситуация встречи с ужом: нельзя убивать надо вынести из дома — №3), или же описывают разные ситуации, сопоставимые на основании схожести объекта регламентированного действия (гадюки и ужа): ситуация встречи с гадюкой (змеей) и предписание убить ее ситуация встречи с ужом и запрет убивать его (№2).
Запреты и предписания образуют единую систему «правил», в которой наказание за нарушение запрета уравновешивается наградой за выполнение предписания:
(4) «[исполнитель]: Когда увидишь змею, старайся убить [предписание], когда убьешь змею [выполнение предписания], сколько грехов с себя сн[имешь] [награда], да, это говорят [...] Вот ужака убьешь [нарушение запрета] — грех [наказание]; если змею убьешь [выполнение предписания], грехи спады-вают [награда].
[собиратель]: А почему ужей нельзя убивать?
[исполнитель]: Его нельзя, и он... змея — серая, а он — желтоватый, его сразу угадаешь, что это не змея, ужак. А ужак грех бить даже [запрет]: у него крест на голове [мотивация-2]. А змею стараются убить [предписание], сколько грехов... [награда]» (АКФ 2000 Волгоградская обл., собиратели Е. Борисова, М. Гаврилов).
В данном поверье сопоставлены две разные ситуации: встреча со змеей и встреча с ужом; поведение в первой ситуации нормируется предписанием, а во второй — запре-
том. Регламентация поведения в каждой из ситуаций имеет свою мотивацию — награда за выполнение предписания и наказание за несоблюдение запрета. Основной прием построения текста — противопоставление: предписание убивать змей контрастирует с запретом убивать ужей; награда за выполнение предписания («грехи спадывают, сколько грехов с себя снимешь») прямопротивоположна наказанию за нарушение запрета («ужака убьешь — грех» — т. е. грех прибавится). И награда, и наказание вводят идею посмертной судьбы человека и Божие-го суда. В результате запроса собеседника (в данном случае — собирателя) причин существования запрета эксплицируется вторая, не вербализованная первоначально, мотивация — указание на особую («священную», сакральную) природу объекта запретного действия (ужа), знаком чего является его отмеченность крестом — одним из основных христианских символов.
В качестве мотивации анализируемого запрета функционируют также этиологические легенды — повествования, представляющие собой народные обработки ветхозаветного сюжета о всемирном потопе и Ноеве ковчеге. Связь с христианским сюжетом способствует осмыслению запрета убивать ужей как греховного действия, апелляция к библейским образам подтверждает незыблемость существующих норм:
(5) «Почему говорят, змея она ядовитая, а вот красная головка, красная головка — она не ядовитая. И ее, говорят, убивать грешно. Убивать грешно [запрет]. Потому что, когда ковчег прохудился, а эта красная головочка взяла и заткнула дырочку. И заткнула эту дырочку [мотивация = сюжетное повествование]. Ее, говорят, грешно убивать [запрет]» (АКФ 1998 Ростовская обл., собиратели Е. Кузьмук, Т. Кузьмук) — поверье + этиологическая легенда.
(6) «Ужаку грех бить [запрет]. Потому что, когда был потоп, то ковчег проела мышка, а ужака, как плавала по воде, и голо-вочкой заткнула, ей Господь покрасил головочку [мотивация-2 = сюжетное повествова-
ние]. И бить ее — грех [запрет]. Она в каждом доме живет, она же святая [мотивация-1]» (АКФ 1995 Волгоградская обл., собиратели Е. Живица, Н. Феклисова) — пове-рье+этиологическая легенда.
(7) «[Ужи] домашние, вот у нас, они есть дома у нас. Глянешь, а она ползеть, но я их не бью [соблюдение запрета]. Мне давно-давно рассказывала старуха одна, а у ней был дедушка грамотный, начитанный... И вот она мне за них рассказывала. Когда-то, давно еше. погибал пароход, они взяли эти дырочки и заслонили своими головами. И-от какие ужаки их заслоняли, в обшем змеи (их, вроде, ужак, Бог не создавал), — она-то мне говорила, — и-от какие головами своими позаслонили туды дырочки-от им Бог и дал красные головы [мотивация-2 = сюжетное повествование]. От их — грех бить, ужак. Ужак бить нельзя [запрет], они святые [мотивация-1], а змею — гадюк — бить надо [предписание]» (АКФ 1995 Волгоградская обл., собиратели Е. Борисова, Е. Парфенова) — поверье + этиологическая легенда.
В приведенных сверхжанровых единствах наблюдается два уровня объяснения запретного действия: мотивация, входящая в структуру поверья, — указание на особую природу ужа, его сакральность («неядови-тость», «святость», красную головку как знак Божией отмеченности; связь с домашними духами)5 — мотивация-1, и сюжетное повествование, раскрывающее причины такой «избранности» и рассказывающее о той роли, которую сыграл уж в спасении ковчега Ноя (мотивация-2). Мотивация-1, таким образом, представляет собой «свернутую» мотивацию-2. Номинация запрета (собственно запрет) представлена в текстах, как правило, два раза: в начале — как основание для последующего рассказа и в конце — как итог, вывод, к которому приходит рассказчик. Декларация запрета (нельзя / грех делать) может быть замещена указанием на выполнение этого запрета («я их [ужей] не бью»), т. е. норма задается констатацией соблюдения «правила». Рассматриваемые нарративы
(этиологические легенды) образуют с поверьями один текст и функционируют как единое целое.
Глубинная мотивация анализируемого запрета может быть связана и с древними мифологическими представлениями уже как о домашнем духе. Не будучи центральными, эти представления отражены в цитируемых выше текстах («она [ужака] в каждом доме живет», «[ужи] домашние, вот у нас, они есть дома у нас») и выступают в ряду прочих характеристик сакральной природы ужа («она в каждом доме живет, она же святая»), в других же нарративах они становятся основными для объяснения причин существования запрета. На Дону ужа, которого видят в доме или во дворе, до сих пор называют доможилом, домашней змеей, домохозяином или домохозяйкой. По народным верованиям, между домашним ужом и проживающей в доме семьей, а особенно главой (хозяином) семьи, существует определенная связь. Появление ужа в доме может предвещать скорое возвращение находящегося в отъезде хозяина, а убийство ужа грозит домочадцам смертью. Соответственно, в функции мотивации рассматриваемого запрета выступают нарративы (былички)
о смерти или несчастьях людей как последствии убийства ужа. Смерть как неотвратимое наказание за нарушение запрета (такая детерминация наиболее типична для незнающего альтернативы архаического сознания: ‘нарушение табу ^ смерть’)6 изображается в большинстве быличек, бытующих в качестве комментария малых фольклорных форм и имеющих своей целью устрашить слушающего, закрепляя определенную норму, «бы-лички оказываются экспликацией правил, кодифицирующих повседневную жизнь, реализацией известного педагогического принципа о преимуществах усвоения per exempla (а не per praecepta)»7. Так, в приведенном ниже примере (№8) быличка о наказании (смерть хозяина дома) за нарушение запрета/ невыполнение предписания (умерщвление ужа) и быличка об исполнении приметы (появление в доме ужа предвещает возвра-
шение хозяина) как награде за соблюдение запрета/ выполнение предписания (не убивать, а выносить ужа) возникают вследствие запроса собеседника (в данном случае — собирателя) причин существования запрета-предписания, сформулированного ранее исполнителем, и функционируют как комментарии к поверью:
(8) «[исполнитель]: Ну, ужей упаси Господи, нельзя убивать [запрет]. Надо на лопаточке в балку вынести [из дома] [предписание].
[собиратель]: А почему нельзя убивать?
[исполнитель]: Ну, считают, это они не вредные [мотивация-1] (поверье). У нас была корова, а я погнала корову, а там из травы бурьян такой растет. И я наломала на веники [...] Навязала веников [дома]. Один веник связала, положила, другой веник...А последний взяла — шлеп: она, красноголовая змея, с рук упала. Я ее и шлепнула [убила] [нарушение запрета / невыполнение предписания]. Она ж (уж) — хозяйка [мотивация-1]. А муж у меня болел тогда. А после этого умер. Так и есть — умер. А потом змеи эти, красноголовые, полезли, замучили нас [наказание] [мотивация-2 = быличка о наказании].
А еше случай был. Ленке [дочке] тогда три года было. Кричит: «Мама, мама, козя-вочка красненькая! » А муж мой в Белой Ка-литве тогда на переподготовке был. Я бегу, а под кроваточкой лежит змея [...] А она [мама исполнителя]: «Да это хозяин скоро придет!» Поняла? И она его взяла на совок, веником помогла ей на совок и вынесла [выполнение предписания] Через два дня Ванька [муж] пришел [награда] [мотивация-3 = бы-личка о сбывшейся примете как награде за соблюдение запрета-предписания]» (АКФ 1997 Ростовская обл., собиратель И. Брилева) — поверье+быличка.
(Б). Некоторые христианские грехи осмысляются в народной традиции в соответствии с древними мифологическими представлениями и выражаются в текстах в отличных от христианской традиции категориях. Так, греху уныния (частный слу-
чай которого — тоска по покойному) соответствует запрет сильно тосковать по человеку:
(9) «А одна проводила одного сына в армию, один остался с ней, а муж тоже на войне. Она тоже плакала за этим мужем [нарушение запрета], потом прислали похоронку. Потом она стала тощая, стлела совершенно, а была такая женщина! И все догадывались: к ней летает змей [наказание]. А она никому не признавалась. Потом она совсем дошла; и конец, наверное, скоро. И потом она сказала, что каждую ночь приходил к ней ее муж и она с ним жила» (АКФ 1996 Ростовская обл., собиратель И. Брилева) — быличка.
(10) «Одна рассказывала. Дочка уехала далеко, а она затосковалась по ней, прям до смерти [нарушение запрета]. И вдруг, беленькая собачка лохмателькая тащит веревку [удавиться]. И говорит: “Давай, бери веревку” [наказание]. Та молитвы стала творить [молитвы ~ магические слова, действия] — пропала собачка [отмена наказания]» (АКФ 1995 Волгоградская обл., собиратель Т. Дианова) — быличка.
(11) «Вот загорюешься [нарушение запрета], тогда уже он в виде змея прилетает, покойник [наказание]. Тогда уже бабушки эти лечат [магические действия, чтобы остановить наказание] (поверье). Да у нас одну так бабку убил. Она, видно, загоревалася [нарушение запрета], и старушка к ней ходила ночевать. И вот, говорит, кто-то постучит — она вскакивает и открывает, а это же он приходил, покойник. И до того дохо-дился, что соседка видала: летит говорит какой-то огненный как хвост и где-то опустится... И где-то утром старушка пошла коров доить. И вот он туда как опустился, что когда пришла сестра, она лежит Так вот это место черное (грудь), как копытом ударенное [наказание] [иллюстрация поверья = быличка о наказании]» (АКФ 1996 Ростовская обл., собиратель И. Брилева) — поверье + быличка.
В приведенных примерах формулировка запретного (греховного) действия отсутст-
вует, ‘грех’ эксплицируется через мотивы нарушения запрета и наказания за него. Цель анализируемых быличек — служить прецедентом, закрепляя (утверждая) правила поведения. Сюжетные повествования функционируют как мотивация (невербализован-ных, в данном случае, запретов) — №9, №10 или как иллюстрация общего положения (‘не делай того-то, а то случится то-то’), уже сформулированного в поверье («развитие заданного сценария») — №11. В качестве наказания за нарушение рассматриваемого запрета в данных текстах изображается смерть. Персонификацией смерти является стремящаяся увести человека за собой нечистая сила. Действия человека, совершающего запретные действия, нарушают космический порядок, в результате чего исчезает граница между реальным и сверхъестественным мирами и представители мира «иного» (огненный змей, нечистый в облике умершего или собачки и т. п.) вторгаются в повседневную жизнь человека, пытаясь забрать его. Предотвратить, остановить наказание возможно с помощью магических действий или молитв, которые часто функционируют в нарративах именно как магические заклинания (№9, №11). «На месте кардинальной для христианской этики категории покаяния мы находим в народной нормативной системе представление о том, что совершенный грех можно искупить специальными магическими действиями и тем самым избежать положенного наказания или смягчить, ограничить его»8.
Мотивы ‘магические действия/слова ^ отмена наказания’ не являются для анализируемой группы сюжетов ключевыми и, в отличие от мотива наказания, представлены факультативно, поскольку основной акцент делается на неизбежности наказания за совершение греховного действия.
Запрет (грех) тосковать по умершему иначе мотивируется в текстах, вводящих перспективу посмертного существования:
(12) «Ну, говорят, он тонеть там [наказание]. Когда плачешь [нарушение запрета], тонеть у воде, затопишь его слезами [нака-
зание]. Так старые люди говорили» (АКФ 1993 Волгоградская обл., собиратель Т. Диа-нова) — поверье.
(13) «Мне снилось. Как вот я в Шахтах жила, и у меня комнатка такая. Как глянула [...] — воды! Она [умершая] там плачет [наказание]. А я: «Ой Верочка, да чего ж ты делаешь?» Она говорит: «Тетя Катя, это не я — это ты [нарушение запрета]» [мотивация = рассказ (сон) о наказании]» (былич-ка). Видите, какие сны! Нельзя плакать [запрет]. Топишь, топишь в слезах дюже [наказание за нарушение]» (поверье) (АКФ 1997 Ростовская обл., собиратель И. Брилева) — быличка + поверье.
В приведенном поверье и иллюстрирующем его нарративе нашли отражение народные представления о загробном мире, о существовании «того» света, однако идея посмертной судьбы как итога земной жизни и Божьего суда в нем не выражена. Мир земной и посмертный представлены как взаимо-проницаемые друг для друга. Объектом наказания оказывается не тот, кто нарушает запрет, а тот, на кого это запретное действие направлено. Несоблюдение запрета изображается как причина нарушения устойчивого порядка вещей (что типично для архаического сознания), с той лишь разницей, что негативные последствия запретных действий, совершенных на земле, немедленно проецируются в мир иной и сказываются на покойном. Наказание исходит не от Бога и даже не от неперсонифицированных высших сил, а как бы от самого нарушающего запрет («это ты... топишь в слезах», «когда плачешь, затопишь его слезами») и по форме аналогично запретному действию (плакать — тонуть в воде). В свою очередь, и согрешивший (сильно тоскующий по умершему) испытывает негативные последствия нарушения запрета: видит тяжелые сны о мучениях покойного, получая, таким образом, знак о необходимости исправить ситуацию, восстановить миропорядок — перестать тосковать и плакать.
Возникающий на основе запрета текст-комментарий может быть организован за
счет совмещения нескольких мотиваций. Приведенный ниже сюжет (№ 14) о смерти как наказании за нарушение запрета тосковать по умершему возникает в речи рассказчика как продолжение, иллюстрация поверья о неизбежности наказания вообще. Поверье, в свою очередь, включает в себя пословицу о Божией строгости, но справедливости:
(14) «Господь долго терпит, но больно бьет (пословица). И не поймешь. Даже не тебя накажет, а твоих детей или твоих внуков. Господь всех наказывает» (АКФ 1999 Брянская обл., собиратель И. Брилева) — поверье.
Следующий далее нарратив не развивает сформулированную в поверье идею ответственности рода, социума, всего человечества за отдельные людские грехи, но подтверждает мысль о неизбежности наказания через рассказ о последствиях конкретного запрета — тосковать по умершему. Повествование начинается с сообщения рассказчика о нарушении им запрета. Дальнейшее расширение текста происходит за счет введения второго рассказчика, цель которого на примере своего личного опыта убедить первого не совершать запретные действия. В качестве аргументации используются все возможные объяснения, при этом одна мотивация представлена в свернутом виде, в форме поверья — ‘не делай то-то, а то будет то-то’ [мотивация-1], другая выстраивается в сюжетное повествование — быличку о наказании за нарушение запрета [мотивация-2]. Первая мотивация раскрывает негативные последствия нарушения запрета для покойного, вторая — для тоскующего. В финале как вывод из сказанного еще раз декларируется запрет (нельзя плакать), контрастирующий с предписанием (надо Бога просить). И запрет, и предписание относятся к одной ситуации (смерть близкого) и задают правила поведения в этой ситуации:
(14 — продолжение) «Вот [... ] у меня сын умер. Сын умер в 33 года, военный был. И я стала плакать [нарушение запрета] Она [соседка] мне говорит: «Не плачь [запрет].
Крепко плохо будет, ему там, ему плохо будет [наказание] [мотивация-1]. У нас, — говорит, — мама умерла (ее мама). Она [мама] каждый день ходила [на кладбище], каждый день плакала [по мужу] [нарушение запрета]. И вот пошла опять. Пошла и плакала, плакала, пока — глядь, а он [муж] стоит перед ней. И она как ахнула, ахнула и повалилась на могилку [...] Лежит, привезли, она полежала, не пила, не ела и умерла [наказание] [быличка=мотивация-2]. Нельзя плакать, нельзя ходить и плакать. Слезы, слезы это вот, — она на мене говорит, — не плачь, не плачь, — говорит, — нельзя [запрет]. Он всегда в слезах, всегда в воде будет лежать. Мертвый — всегда ему очень тяжко [наказание] [мотивация-1]. Нельзя плакать никогда — надо Бога просить [запрет — предписание]» (АКФ 1999 Брянская обл., собиратель И. Брилева) — поверье + быличка.
Таким образом, одна из форм реализации в народной культуре концепта ‘грех’ — его «архивация» через «систему правил» (запретов и предписаний). Экспликация и вербализация таких составляющих концепта ‘грех’ (и их взаимных связей), как запрет, запрет предписание, нарушение запрета
^ наказание и др. практически исчерпывает логическую структуру и композиционную организацию проанализированных малых фольклорных форм, во многом определяет основное сюжетное развитие комментирующих их нарративов и принципы соединения первых и вторых в единые сверхжанровые образования.
1 Библейская энциклопедия. М., 1891 (1990). С. 177.
2 Толстая С. М. Преступление и наказание в свете мифологии // Логический анализ языка: Языки этики. М, 2000. С. 374.
3 Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Запреты // Славянские древности: этнолингвистический словарь: В 5 т. Т. 2. С. 269; Топорков А. Л. О принципах глубинной мотивации бытовых запретов // Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985. С. 82-84;
Христофорова О. Б. Логика толкований: Фольклор и моделирование поведения в архаических культурах. М.,1998. С. 22; Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 113.
4 АКФ — архив кафедры фольклора.
5 Запрет на какое-либо действие может также мотивироваться не сакральностью, а «греховностью» объекта действия. Например, в старообрядческой среде чай считается «греховным», «проклятым», в силу чего пить его грешно: «[Когда распинали Христа] все травы от великой скорби приклонились, а одно чайное дерево стояло прямо, за что и было
проклято Господом, вот почему старые люди до сих пор считают пить чай великим грехом» («Народная Библия»: Восточнославянские этиологические легенды / Сост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004. №755).
6 Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М., 1996.
7 Цивьян Т.В. Оппозиция мифологическое / реальное в поздних мифопоэтических текстах // Малые формы фольклора. М., 1995. С. 133.
8 Толстая С. М. Грех в свете славянской мифологии // Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей. М., 2000. С. 35.





 CC BY
CC BY 63
63