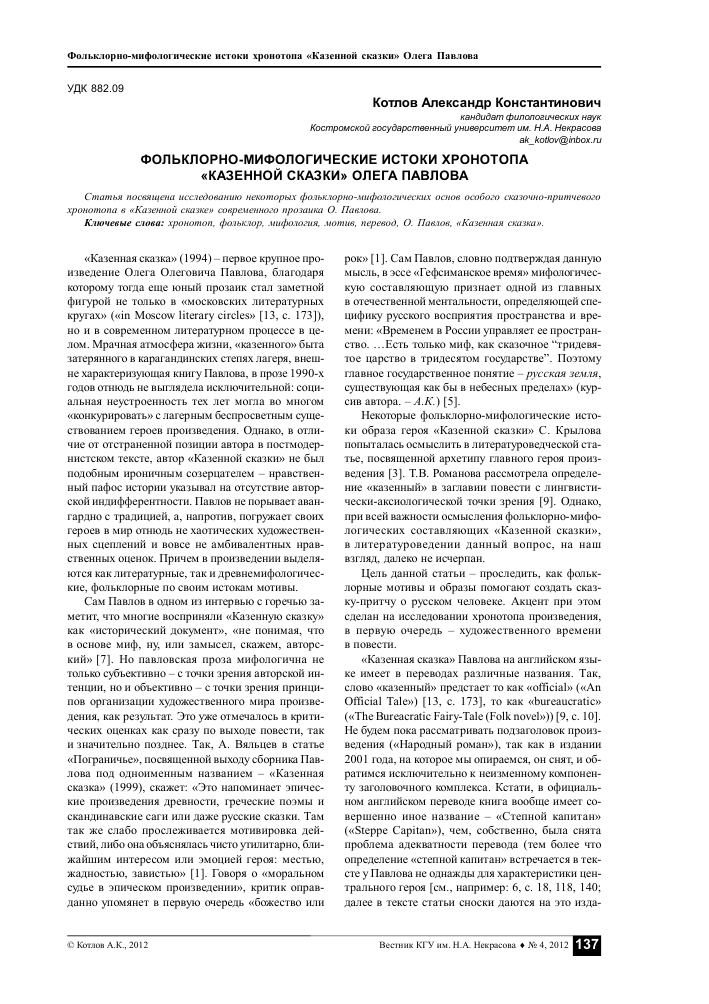УДК 882.09
Котлов Александр Константинович
кандидат филологических наук Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
ak_kotlov@inbox.ru
ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ХРОНОТОПА «КАЗЕННОЙ СКАЗКИ» ОЛЕГА ПАВЛОВА
Статья посвящена исследованию некоторых фольклорно-мифологических основ особого сказочно-притчевого хронотопа в «Казенной сказке» современного прозаика О. Павлова.
Ключевые слова: хронотоп, фольклор, мифология, мотив, перевод, О. Павлов, «Казенная сказка».
«Казенная сказка» (1994) - первое крупное произведение Олега Олеговича Павлова, благодаря которому тогда еще юный прозаик стал заметной фигурой не только в «московских литературных кругах» («in Moscow literary circles» [13, с. 173]), но и в современном литературном процессе в целом. Мрачная атмосфера жизни, «казенного» быта затерянного в карагандинских степях лагеря, внешне характеризующая книгу Павлова, в прозе 1990-х годов отнюдь не выглядела исключительной: социальная неустроенность тех лет могла во многом «конкурировать» с лагерным беспросветным существованием героев произведения. Однако, в отличие от отстраненной позиции автора в постмодернистском тексте, автор «Казенной сказки» не был подобным ироничным созерцателем - нравственный пафос истории указывал на отсутствие авторской индифферентности. Павлов не порывает авангардно с традицией, а, напротив, погружает своих героев в мир отнюдь не хаотических художественных сцеплений и вовсе не амбивалентных нравственных оценок. Причем в произведении выделяются как литературные, так и древнемифологические, фольклорные по своим истокам мотивы.
Сам Павлов в одном из интервью с горечью заметит, что многие восприняли «Казенную сказку» как «исторический документ», «не понимая, что в основе миф, ну, или замысел, скажем, авторский» [7]. Но павловская проза мифологична не только субъективно - с точки зрения авторской интенции, но и объективно - с точки зрения принципов организации художественного мира произведения, как результат. Это уже отмечалось в критических оценках как сразу по выходе повести, так и значительно позднее. Так, А. Вяльцев в статье «Пограничье», посвященной выходу сборника Павлова под одноименным названием - «Казенная сказка» (1999), скажет: «Это напоминает эпические произведения древности, греческие поэмы и скандинавские саги или даже русские сказки. Там так же слабо прослеживается мотивировка действий, либо она объяснялась чисто утилитарно, ближайшим интересом или эмоцией героя: местью, жадностью, завистью» [1]. Говоря о «моральном судье в эпическом произведении», критик оправданно упомянет в первую очередь «божество или
рок» [1]. Сам Павлов, словно подтверждая данную мысль, в эссе «Гефсиманское время» мифологическую составляющую признает одной из главных в отечественной ментальности, определяющей специфику русского восприятия пространства и времени: «Временем в России управляет ее пространство. ...Есть только миф, как сказочное “тридевятое царство в тридесятом государстве”. Поэтому главное государственное понятие - русская земля, существующая как бы в небесных пределах» (курсив автора. -А.К.) [5].
Некоторые фольклорно-мифологические истоки образа героя «Казенной сказки» С. Крылова попыталась осмыслить в литературоведческой статье, посвященной архетипу главного героя произведения [3]. Т.В. Романова рассмотрела определение «казенный» в заглавии повести с лингвисти-чески-аксиологической точки зрения [9]. Однако, при всей важности осмысления фольклорно-мифологических составляющих «Казенной сказки», в литературоведении данный вопрос, на наш взгляд, далеко не исчерпан.
Цель данной статьи - проследить, как фольклорные мотивы и образы помогают создать сказку-притчу о русском человеке. Акцент при этом сделан на исследовании хронотопа произведения, в первую очередь - художественного времени в повести.
«Казенная сказка» Павлова на английском языке имеет в переводах различные названия. Так, слово «казенный» предстает то как «official» («An Official Tale») [13, с. 173], то как «bureaucratic» («The Bureacratic Fairy-Tale (Folk novel»)) [9, с. 10]. Не будем пока рассматривать подзаголовок произведения («Народный роман»), так как в издании 2001 года, на которое мы опираемся, он снят, и обратимся исключительно к неизменному компоненту заголовочного комплекса. Кстати, в официальном английском переводе книга вообще имеет совершенно иное название - «Степной капитан» («Steppe Capitan»), чем, собственно, была снята проблема адекватности перевода (тем более что определение «степной капитан» встречается в тексте у Павлова не однажды для характеристики центрального героя [см., например: 6, с. 18, 118, 140; далее в тексте статьи сноски даются на это изда-
ние с указанием страницы]). Однако не исчезла проблема семантики самого слова «казенный» в названии произведения. На наш взгляд, емкость заглавия снижается при употреблении таких слов, как «state» [З, с. 161] и, особенно, «bureaucratic»: да, подобные смыслы, без сомнения, присутствуют в названии, являясь, конечно, доминантными, но они отнюдь не передают всю многомерность определения «казенный». В англо-русском словаре «bureaucratic» дается как однозначное слово [4, с. 100], тогда как «official» обладает большим семантическим диапазоном: «служебный», «официальный» и, что важно, «формальный, “казенный”»; а выражение «official red tape» обозначает «волокиту; бюрократизм» [4, с. 485].
Обратимся к русским толковым словарям. В современных изданиях у слова «казенный» лишь третье, причем переносное, значение «формальный, бюрократический», в то время как первые два, пусть и с пометой «устаревшие», не имеют сниженной коннотации: 1) прил. к казна (в 1 знач.), государственный; 2) относящийся к делопроизводству государственных учреждений, выполненный, написанный по строго установленной форме (о документах, бумагах и т.п.) [12, с. 14-15]. В словаре же В.И. Даля вообще не зафиксировано значение слова «казенный» как «бюрократический», а именно: «казенный» - «принадлежащий казне, правительству, государству». И даже «казенщина», которая сейчас утратила все смыслы, кроме негативного, в данном словаре трактуется совершенно нейтрально: «все казенное, казне принадлежащее» [2, с. 74]. Возможно, это обусловлено и цензурными запретами, поскольку в иллюстративный материал
В.И. Даль включает фразы (в том числе и пословицы), указывающие на бытование слов «казна», и тогда в полной мере возникает издавна существовавшее отношение русского человека к «мертвящебюрократическим» явлениям в русском государстве: Казна воюет, а сума горюет. Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит. Казны бойся. Казна первый обидчик. На казну нет суда. С казною судиться, своим поступиться. С казною судиться, что махалке с ветром тягаться [2, с. 74]. В то же время не отменить и совершенно иных паремий, приведенных В.И. Далем: Крепко царство казною. Казна миром живет, и мир казной. Жаль, что в современном русском языке осталось лишь такое слово, как «казнокрад», хотя у В.И. Даля зафиксирован и антоним к нему - «каз-нодей», то есть «человек оборотливый, трудолюбивый, наживающий и сберегающий» [2, с. 75].
В рассматриваемом заглавии переплетаются все смысловые нюансы слова «казенный». Так, они подтекстово сталкиваются уже в эпиграфе к произведению: «Посвящается русским капитанам, этим крепчайшим служакам, на чьих горбах да гробах покоилось во все века наше царство-госу-
дарство. Вечная всем память» [с. 5]. Здесь и «царство-государство», и «служака» (далеко не «казнокрад», а «казнодей»), но и одновременно «горбы да гробы» как неминуемая «цена» службы государству и «плата» за нее.
Второе слово в заглавии - «сказка» - не менее проблемно в плане как смыслового содержания, так и перевода. «Fairy-tale» - все же, прежде всего, «волшебная сказка», «небылица» [4, с. 259], что выглядело бы в соотнесении с сюжетом произведения Павлова, образом главного героя неприкрытой издевкой. Перевод канадского исследователя, по-видимому, ближе к истине - «tale»: да, сказка, но и просто рассказ [4, с. 713]. Кроме того, «сказка» как чисто жанровая спецификация перекрывается авторскими определениями «народный роман» (в первом издании), «повесть» (в издании трилогии «Повести последних дней» вместе с романом «Дело Матюшина» и повестью «Карагандинские девятины»).
С. Крылова говорит о заглавии «Казенная сказка» как об «оксюморонном гибриде», так как в повести нет «ни счастливого финала, ни чудес, ни лжи, в которой намек». Думается, исследователь не вполне прав: есть все эти приметы сказочного и в произведении Павлова. Как ни свирепствуй буран, а весна будет. Но в чем С. Крылова, безусловно, права, так это в том, что заглавная формула «имеет свое эстетическое поле воздействия как минимум на два фактора: эпичность и архетип героя» [3, с. 162]. Однако оба слова - «казенная», «сказка» - в равной мере включают в тексте культурно-исторические коды, открывающие в сознании читателя двери традиции, превращая сиюминутное в вечное.
Закономерно, что в произведении довольно условны портретные характеристики героев, скупы, часто лишь косвенны маркеры исторического времени, что еще более подчеркивает некий сказочно-притчевый характер произведения. Например, еще в первой главе сказано: «События, преображавшие все в мире, до степных мест не дохаживали, плутали» [с. 20].
Именно сказочные (в целом - фольклорные) мотивы, сопровождающие героя, несомненно, расширяют повествование, придают ему, кроме всего прочего, общенародное звучание и общечеловеческий, философский смысл. Подобные мотивы отмечались, например, в той же работе С. Крыловой [3, с. 162, 166 и др.]. Вспомним и формулу «царство-государство» в эпиграфе [с. 5], и название первой главы «Жили-были». Значимо, бесспорно, и имя главного героя - Иван. Причем в повести монологические тирады некоторых персонажей, обращенные к главному герою, стилистически близки к сказочной манере: «начальство» (некая темная сила, сказочно-обманная) - «Оставайся-ка, Иван.» [с. 6]; Илья Перегуд (сила фольклорно-богатырс-
кая, пусть и «заколдованная», в чем-то родная) -«Чего по ней (картошке. -А.К.) слезы лить, Ваня»; «Это верно, Ваня» [с. 121, 123]. «Дураком» окрестит Ивана Яковлевича начальник лагеря Синебрю-хов: «Такой дурак - и на свободе» [с. 27] (конечно же, павловскому герою отнюдь не по плечу амплуа Ивана-царевича, но, как известно, в народном сознании и Иван-дурак симпатией не обделен).
Сказочен в чем-то и хронотоп повести. Так, часто теряются координаты времени в вяло текущей гарнизонной жизни: «Сколько времени минуло, не сказать: жизнь в полку наладилась, и счет времени потеряли» [с. 71]. Только явленные в народной жизни и отраженные в фольклоре времена года маркируют казенное «житье-бытье». Вот характерный для хронотопа повести диалог капитана с шофером в главе «Вся правда», странным образом коррелирующий с самим понятием «правда» в народном сознании главного героя: «.Всё, зима. В декабре уже заметет, будь уверен». - «Мамонька, год угрохали. Это ж прощальный дождичек, капитан?» - «Всё, жди их до весны, там киселя похлебаем». - «А весна-то будет? А если, говорят, льдом, на хрен, покроемся?» - «Хватит брехать. Быть такого не может» [с. 116].
Весь сюжет повести маркирован природно-временными отметами, что соответствует собственно народно-мифологическому, исконному мироощущению, сознанию русского крестьянина, сверяющему свою жизнь с природным циклом. Так, долгая русская зима отзывается в экспозиции произведения аллюзиями на «сонно-печную» жизнь Ивануш-ки-дурачка: «Только зимой наваливалась на поселок сонливая тишина и натекал белый грязноватый покой, погружая Карабас в спячку. В то долгое время запоминалось, как теплится жизнь, и согревало ее тепло, эдакое печное. Капитан забывался в том тепле, запекавшем и многие его раны» (здесь и далее курсив наш. - А.К.) [с. 10]. Но, как известно, нужда заставляет сказочного соню, чтобы он, не слезая, правда, с печи, по материнскому слову, исполнил необходимое, должное (с чего и начинается сюжет народной сказки). В сказке «казенной» все та же нужда, но и одновременно практически родительские, отцовские чувства велят капитану накормить «сынков», с чего начнется развитие сюжета в повести Павлова, связанное с посадкой в степи картошки.
Особое значение в быте и бытии русского крестьянина, как известно, имела весна - это не только пробуждение природы, самой земли после зимней спячки, но и, в представлении наших предков, начало нового жизненного цикла (вспомним о праздновании нового года именно в начале марта). «Мухи, змеи, пропавшие кто осенью, кто зимой, в поселке в ту пору еще не появлялись. И было ранней весной грустно жить, так как из живых на поверку только люди и вши оставались» [с. 22], - так
начинается вторая глава произведения («Картошка»), содержащая и фабульную завязку повести в целом, и начало законченного микросюжета данной главы. Годовой природно-жизненный цикл в данной части произведения уже представлен почти полностью: за упомянутой весной и последовавшей посадкой картошки - «Вспыхнуло сухое степное лето» [с. 27], за ним - осень («С исходом солнечных праздников и летнего цветенья землю не оставляли дожди» [с. 29]). Богатый урожай, а также «звонок генерала» вселяют в душу капитана надежду на сытую зиму: «Все будет по-другому, - проговорил с радостью Хабаров. - Все будет хорошо. Все будут сытыми» [с. 34].
Примечательна радость героя, выражающая его благодарность миру, народно-мифологическое преклонение перед природными силами: «Когда полыхало солнце, он радовался, думая, что картошка согреется его теплом. И когда поливали дожди, радовался, что картошка вдоволь напьется воды» [с. 29]. Словно исконное крестьянское поклонение непреложным законам бытия слышится в этих анафорически организованных фразах, в этих, по сути, фольклорных повторах. Подобное смиренное мировосприятие определяет народно-мифологическое восприятие жизни. Не случайно еще в экспозиционном представлении главного героя пусть и не указано на конкретные причины его выбора армейской службы, но сказано об особенностях течения жизни в гарнизоне, словно в забытой Богом деревне: «Жизнь в этой гуще не перетекает по годам и годами не сотрясается. Время тут не приносит легких, быстрых перемен, а потому живут вовсе без него, разумея попросту, что всему свой черед» [с. 6-7].
Картиной «языческого алтаря на пире плодоро-дья» кажется сцена сбора урожая и позднего сытного ужина. Однако, как и в процитированных па-стернаковских «живаговских» строках, древнемифологическое соединяется с христианским мироощущением, интуитивно-бессознательное, языческое в душе Хабарова сопрягается с христианским началом. Это отразится, прежде всего, в кульминационной для данной главы сцене молитвы героя.
Нет в сознании героя уверенности в результате предпринятого дела, а потому уже не к мифологическим «равнодушным» природным силам обращается он (солнце и дождь - силы, во многом стоящие над человеком), а к Богу, который, по словам И. Бродского, в деревне «живет не по углам», а «всюду», - единственному, кто может укрепить его надежду верой. Этот порыв рождается спонтанно-интуитивно, «вдруг» (в произведениях Павлова это «вдруг» появляется порою часто, как, например, в рассказе «Конец века»), из душевных глубин, в которых, казалось, молитвенное слово не могло появиться: «Капитан в Бога никогда не верил, но встал вдруг на колени посреди канцелярии» [с. 29]. Срока сбора картошки герой не знает: в его
сиротской жизни, давно, с ухода в армию оторванной от земли, все крестьянские знания, если и были, забылись. Но именно по-хабаровски обычно ждет русский крестьянин того дня, когда наступит пора убирать урожай, «будто это и должно было случиться в единственный день, как смерть или рождение» [с. 29]. Как кажется, утраченное на периферии действий героя, народное сознание глубоко запечатлено в его главных поступках, вплоть до «зимнего подвига» в сюжетной развязке повести (вспомним первоначальный подзаголовок - «народный роман»). Перед этим кульминационным эпизодом не случайно появляется воспоминание о русской деревне - единственное в произведении упоминание о детстве Хабарова, прошедшее вдали от карагандинских степей. Важно, что оно как раз деревенское, проникнутое молитвенной благодатью: «Хабаров любил тихую морозную зиму, когда хорошо -и кругом, и на душе. В такую зиму на русских равнинах окуриваются печным дымом избушки, точно ладаном. Деревни на огромных просторах стоят заиндевелые и погруженные в высокую тишину неба. Даже собаки не брешут по дворам, и дремлет крещеный мир в пышных снегах. Хоть свечку ставь перед той картиной, чудеснейшей, чем образа. Эту тихую морозную зиму горемычный наш капитан помнил с детства, быть может, больше хорошего он и не видел» [с. 144]. Эта молитвенная картина предваряет подвиг капитана, тогда как его молитва во второй главе - перед уборкой картошки, то есть еще одним маленьким подвигом, и опять -ради «сынков»: «Позвал его громко. И не молился, не бил поклонов, чего отродясь не умел, а, выпрямившись - как честный служака на смотру, - доложил для начала про то, что во всей великой стране имеется лишь гнилая картошка. И попросил, помолчав и переведя дыхание: “Если вы на самом деле есть, тогда помогите, если так возможно, собрать моей роте побольше картошки. Я за это в вас верить стану и отплачу жизнью, если потребуется”» [с. 29-30]. Так соединяются два самых важных в сюжете повести эпизода.
Однако после второй главы осенне-зимний сюжет произведения начинает «буксовать», превращаясь для главного героя в цепь мучительных испытаний. Мотив «хождения по мукам» соединяется в последующих главах повести с мотивом жертвенности: как в народной сказке, «казенному» Иванушке уготован тяжелый путь испытаний. С третьей главы, по словам С. Крыловой, «начинается крестный путь славного капитана» [3, с. 166].
Кроме того, и художественное пространство произведения, как и время, фольклорно в своей основе: то обрывается тупиками «богатырского распутья» (налево, направо, прямо - всё одно), то видится конечным, завершенным. Например, в экспозиции повести, в описании месторасположения лагеря отмечается: «К баракам тянулись вытоптан-
ные сапогами стёжки, такие узкие, будто люди ходили по краю, боясь упасть. Эти же стёжки уводили к тупикам, обрываясь там, где начинались закрытые зоны и всякие другие запреты. Вольный доступ открывали Карабасу лагерная узкоколейка да степной большак, обрывавшиеся далеко за сопками. Еще уводил от лагеря, на отшиб, почти не примечаемый могильник, куда больничка захоранивала бесхозных зеков. .Вот и все сообщение, если так считать, все пути да выходы» [с. 8].
Полумифическая Долинка, служба в которой считалась в сравнении с Карабасом чуть ли не сказочным счастьем, для Хабарова располагается по-сказочному на краю земли - «там, где земля завершалась» [с. 117]. Однако искать лучшей доли (в названии Долинка слышится не только «дол, долина», но и «доля») в другом месте капитан Хабаров не намерен.
Т.Л. Рыбальченко, рассматривая сказочный сюжет возвращения в русской прозе второй половины ХХ века, утверждает, что данная фабульная основа «опровергается сюжетом реальности» [11, с. 59]. Думается, исследователь не прав, основываясь лишь на подобном «сюжете», в то время как метафизически осмысленный финал говорит не столько о «силе онтологического хаоса, не поддающегося космизации» [11, с. 60], сколько о гармонии вечности, понятой не безрелигиозно-апокалиптичес-ки, а христиански. Об этом говорят и последние строки повести («пускай душа его упокоится с миром» [с. 166]), и такой временной маркер, как весна, приобретающий в философском контексте произведения характер жизнеутверждающего символа.
Синонимом жизни весна всегда была и в народном сознании. Вновь вспомним разговор главного героя с шофером: «А весна-то будет? А если, говорят, льдом, на хрен, покроемся?» - «Хватит брехать. Быть такого не может» [с. 116]. В диалоге со своим мучителем особистом Скрипицыным Хабаров, как кажется, сломленный и по-христиански просящий прощения у своего врага, услышит от того: «Значит, жди весны, только дождись - и все будет!» Для Скрипицына эти слова скрывают иной смысл, нежели для капитана, - и вот уже Хабаров решает, что «останется зимовать в Карабасе, а весной с чистой совестью уйдет искать на земле место, где и помрет, если захочется» [с. 143]. Почти скрипицынские слова звучат и в прощальных словах главного героя, собирающегося за деньгами в полк, к отчаявшимся солдатам: «Два дня дайте, справимся, а потом и весна, весной-то все у нас будет!» [с. 151]. Действительно, в финале повести жертва капитана словно бы умилостивила небеса: «И был будничный день в самом конце марта. .плыл теплый солнечный свет. Такой же теплый, а то и душный, был воздух» [с. 159]. Странным, но символичным созвучьем рифмуются фразы о наступлении весны и об обнаружении трупа капита-
на: «И нашелся дурак, ахнул: “Хабаров пришел...”. А он не пришел, а ушел»; «пришла за зимою весна» [с. 160]. Весна становится в повести емким метафизическим символом.
Таким образом, фольклорно-мифологические мотивы и образы помогают Павлову создать особый народнопоэтический сказочно-притчевый мир, истоки которого - в народной метафизике.
Библиографический список
1. Вяльцев А. Пограничье (Олег Павлов. Казенная сказка) // Октябрь. - 2000. - №3. (Публикации в «толстых» журналах цитируются по электронным версиям с сайта: http://www.magazines.russ.ru.)
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2: И-О. - М.: Рус. яз., 1989. -779 с.
3. Крылова С. Архетип героя в повести Олега Павлова «Казенная сказка» // Studia Rossica Posnaniensia. - 2011. - vol. XXXVI. - P. 161-171.
4. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 24-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 1992. - 848 с.
5. Павлов О. Гефсиманское время // Октябрь. -2008. - № 1.
6. Павлов О. Казенная сказка. Повесть // Павлов О.О. Повести последних дней: трилогия. - М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. - 494 с. (В тексте статьи произведение цитируется по данному изданию с указанием страницы.)
7. Павлов О. Одиночество - это работа // Российская газета (федеральный выпуск). - 2010. -
№ 5204 (10 июня) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. rg. ru/2010/06/10/pavlov. html (дата обращения: 10.11.2012).
8. Павлов О. Очень жалко русских людей (интервью В. Кудрявцевой) // Русский мир. Информационный портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. russkiymir. ru/russkiymir. ru/ru/ publications/interview0257.html (дата обращения: 13.11.2012).
9. Романова Т. В. Аксиологема «казенный» в романе О. Павлова «Казенная сказка (Народный роман)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www. hse. ru/data/2012/07/25/1257319452/ Аксиологема%20казенный%20сказка.pdf (дата обращения: 9.11.2012).
10. Русско-английский словарь: ок. 55000 слов / сост. О.С. Ахманова, З.С. Выгодская, Т.П. Горбунова и др.; под общ. ред. А.И. Смирницкого. 16-е изд., испр., под. ред О.С. Ахмановой. - М.: Рус. яз., 1992. - 768 с.
11. Рыбальченко Т. Л. Ситуация возвращения в сюжетах русской реалистической прозы 19501990-х гг. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/fil/01/ image/58-82.pdf (дата обращения: 12.11.2012).
12. Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. - 3-е изд., стереотип. - Т. 2: К-О. - М.: Рус. яз., 1986. - 736 с.
13. Shneidman N.N. Russian Literature, 19952002: on the threshold of the new millennium. -Toronto [etc.]: Univ. of Toronto press, 2004.





 CC BY
CC BY 100
100