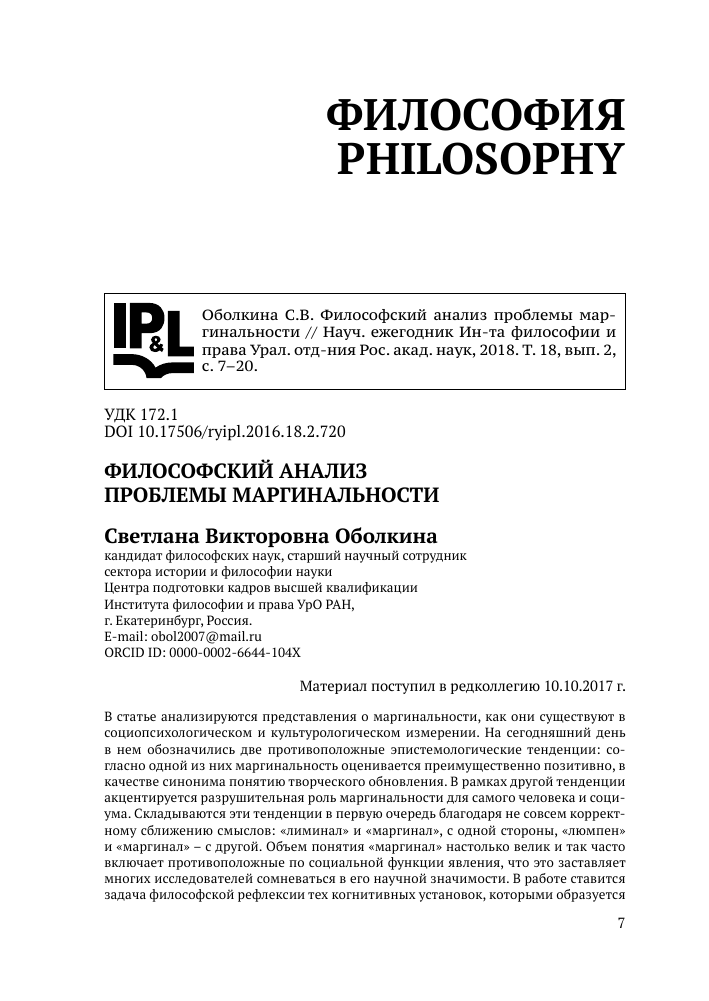ФИЛОСОФИЯ PHILOSOPHY
Оболкина С.В. Философский анализ проблемы маргинальное™ // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 7-20.
УДК 172.1
DOI 10.17506/ryipl.2016.18.2.720
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МАРГИНАЛЬНОСТИ
Светлана Викторовна Оболкина
кандидат философских наук, старший научный сотрудник
сектора истории и философии науки
Центра подготовки кадров высшей квалификации
Института философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия.
E-mail: obol2007@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6644-104X
Материал поступил в редколлегию 10.10.2017 г.
В статье анализируются представления о маргинальности, как они существуют в социопсихологическом и культурологическом измерении. На сегодняшний день в нем обозначились две противоположные эпистемологические тенденции: согласно одной из них маргинальность оценивается преимущественно позитивно, в качестве синонима понятию творческого обновления. В рамках другой тенденции акцентируется разрушительная роль маргинальности для самого человека и социума. Складываются эти тенденции в первую очередь благодаря не совсем корректному сближению смыслов: «лиминал» и «маргинал», с одной стороны, «люмпен» и «маргинал» - с другой. Объем понятия «маргинал» настолько велик и так часто включает противоположные по социальной функции явления, что это заставляет многих исследователей сомневаться в его научной значимости. В работе ставится задача философской рефлексии тех когнитивных установок, которыми образуется
современное понимание маргинальное™. Целью является поиск смысловой константы в одинаково важных, но противоположных семантических векторах этого понятия. В качестве ключевого концепта метаязыка в отношении темы маргиналь-ности принимается категория прегнантности понятия, благодаря которой можно говорить о специфике сближаемых смыслов и рассмотреть онтологические предпосылки, лежащие в основе их отождествления. Далее анализируется современное понимание социальной маргинальности в контексте исходного смысла: маргиналии как записи на полях. Это помогает переосмыслить фундаментальную метафору, выступающую в качестве когнитивных направляющих процесса исследования маргинальности. Автор рассматривает ее в контексте теории социальных полей П. Бурдье, а также философии Другого. Представление о мифологеме «свой/чужой» и формуле «homo sacer» в решении вопроса о семантической константе маргинально-сти позволяет предположить, что маргинальность связана с категорией социальной нормы, причем сама норма апофатически определяется благодаря феномену мар-гинальности.
Ключевые слова: маргинал, маргинальность, лиминальность, люмпен, докса, социальная норма.
Тема маргинальности - одна из самых востребованных и разработанных в различных сферах науки. В экспозиции проблемы основной тон задан чикагской школой социологии, и в первую очередь, исследованиями Р.Э. Парка. Понятийная нагрузка слова создается коннотациями смысла «находиться на краю» (от лат. margo - край, граница). У Парка речь идет о еврее за пределами средневековых гетто, который «и исторически, и типически был и остается маргинальным человеком» (Парк 1998: 174), о мулате в США, прозелите в Азии. Исследователь показывает, что пребывание на границе двух культур формирует особый психотип, для которого характерен ряд черт: беспокойство, повышенная чувствительность, эгоцентризм. Парк отмечает, что этот психотип благодаря свойственной ему активности оказывается источником социальной мобильности. Представитель социальной психологии Т. Шибутани развивает эту мысль: «В любой культуре наибольшие достижения осуществляются обычно во время быстрых социальных изменений и многие из великих вкладов были сделаны маргинальными людьми» (Шибутани 1999: 495-496). «Реальность, к которой люди постоянно приспосабливаются, состоит из конвенциальных значений - согласованных способов подхода к различным категориям объектов» (Шибутани 1999: 502), и для маргинала (как почти чужака) подобное согласие проблематично. А значит, с высокой долей вероятности возникает сомнение в единственно возможном положении дел. Здесь могут иметь место и негативные следствия, подчеркивает исследователь: маргинал может прийти к «отчуждению от самого себя» (Шибутани 1999: 495), что чревато неврозами и психозами.
Анализ негативных моментов психотипа маргинала получает некоторое преобладание в исследованиях Стоунквиста (Стоунквист 1979). Он подчеркивает: маргинал - это не тот, кто просто находится в состоянии социокультурного конфликта, но тот, кто его сознательно переживает. Данное уточнение направило внимание исследователей на особый тип маргинала:
человека, который находится в пределах своей этнокультурной среды, но тем не менее сознательно выбирает позицию на «краю».
Таким образом, тема маргинала как определенного социального и психологического типа получила широкое развитие - вплоть до появления маргиналистики в качестве междисциплинарной области (Атоян 1993). При этом аксиологическая двойственность в отношении феномена маргинала не только сохраняется, но становится эпистемологической спецификой: на сегодняшний день сосуществуют два подхода к маргинальности, которые можно обозначить как позитивный и негативный. Если на начальных этапах более значимой была «позитивная» тенденция, то позднее активнее проявилась противоположная: понятие «маргинал» начало сливаться в неразличимое с «люмпеном», «девиантом» и т.п., причем именно в смысле их а(анти)социальности. В первую очередь это характерно для исследований юридического характера: «Маргинальность проявляется в сознательно-волевой деятельности человека и имеет либо юридически нейтральный, реже - позитивный характер, но преимущественно манифестируется негативно» (Степаненко 2012Ь: 34-35). Это «неспособность индивидов адаптироваться к нормативно-ценностной системе, предрасположенность к совершению правонарушений, в том числе преступлений» (Степаненко 2012а: 61). Нельзя отбрасывать как несущественную для научного исследования и повседневную интерпретацию маргинальности: «В повседневной речи слово практически сразу получило негативный смысл. "Маргинальность" стали отождествлять с а(нти)социальностью, люмпенизацией, перевернутой системой ценностей» (Балла).
Кратко очертив историю развития понятия «маргинал», - историю, в которой проявились две противоположные тенденции смыслообразо-вания, - обозначим цель данной работы: найти семантическую константу понятия «маргинальность». Почему это важно? Потому что при всей разработанности темы мы можем указать пальцем на маргинала, однако не зная точно, почему мы это можем сделать. Для обыденного знания хватает чего-то вроде «длинного пальто»1, но для научного дискурса все чаще высказываются пожелания «отменить» данное понятие, поскольку область эмпирически верифицируемых конструктов, которые обозначаются понятием «маргинал», постоянно расширяется; суть данного явления ускользает. Какова методологическая специфика этого расширения? Сопоставление нового эмпирического факта с имеющимся набором типов ситуаций, личностей, мотивов, зафиксированным в опыте культуры, в языке, происходит путем абдуктивного заключения (Ионин 2004: 128-129), и это вполне характерно для исследований маргинальности. Но абдукция (по сути, угадывание) не дает знанию ни понятийной строгости, ни теоретического роста. Поэтому на сегодняшний день исследования маргинальности, взятые как целое, воспроизводят довольно знакомый паттерн мифа -истории про дракона: от выделения социального феномена в качестве страдающего начала до анализа его агрессивности; «убивший дракона
1 Этот эстетический штрих указывает Э. Лимонов, характеризуя маргиналов современности (Лимонов).
становится драконом». Следовательно, нужно снова поднимать проблему маргинала, но именно как эпистемологическую проблему: как знание о своем незнании. Это требует философского исследования, работы в большей степени с мета-, а не объектным языком, а именно со спецификой саморазвития понятия.
В отношении маргинала можно говорить о прегнантности понятия1, что позволяет осуществляться абдуктивному заключению. Понятия (как и гештальты) могут быть «хорошими формами» в деле понимания, даже если их содержание включает противоположные коннотации. Коннотации притягиваются не в силу когнитивного «беспредела», они заполняют некий смысловой вакуум, и это есть «пустота» искомой нами константы. Какие из интенций смыслообразования выводят на понятийное «ядро», а какие - на «периферию»? Проанализируем прежде всего «позитивную» тенденцию в анализе маргинальности, для которой «маргинал» выступает практически синонимом понятия творческой потенции.
В пределах этого подхода понятие «маргинальный» притягивает дополнительное себе «лиминальный» (от лат. limen - порог), зачастую почти сливаясь с ним. Его вводит в научный оборот В. Тэрнер (Тэрнер 1983), опираясь в свою очередь на работы А. ван Геннепа. Лиминальность для Тернера выступает альтернативой структуре как таковой. «Потому-то Тэрнер и призывает внимательно следить за тем, что происходит на окраинах: новое идет оттуда» (Бейлис 1983: 28). «Лиминальный» используется как синоним «маргинальному» благодаря отождествлению смыслов «преодолевающий границы» и «разрушающий пределы», а также благодаря мотивам социального пренебрежения: Тэрнер указывает, что человека в состоянии лими часто лишают одежды и имени, обмазывают грязью и считают бесполым. Обновление вкупе с социальным отчуждением, таким образом, выступает «точкой схода» понятий «маргинальность» и «лиминальность». И, соответственно, точкой роста идеи о том, что суть маргинальности - творческий потенциал.
Стоит подчеркнуть, что у Тэрнера речь идет именно о фазе процесса социальной динамики. Это стадия некоего предельного освобождения от любых поведенческих норм и правил, что и позволяет осуществляться потенциям перерождения. Тэрнер, анализируя содержательные особенности ритуала, отмечает: «Однако неизбежным образом перемены эфемерны и преходящи (если угодно, "лиминальны"), так как два способа социальных взаимоотношений здесь культурно поляризованы» (Тэрнер 1983: 247). Стадия лими заканчивается возвращением к новой относительно стабильной и четко определенной позиции в обществе. Через лиминальную стадию рождается новое в искусстве, философии (это основные примеры «позитивной» тенденции), но это не делает «маргинальность» и «лиминальность»
1 Прегнантность (от лат. praegnans - содержательный, обремененный, богатый) - понятие гештальт-психологии. Это некий конечный перцептивный или интеллектуальный образ, характеризующийся содержательностью и завершенностью; в нем проявляются свойства стабильной фигуры с отчетливо выраженными границами.
синонимами. Кроме того, в борьбе идей далеко не всегда важна оппозиция «центра» и «края»; борьба чаще всего ведется именно в «центре». Оппозиционеры, пользующиеся для трансляции своих идей официальными каналами (медиаресурсами, выставочными залами и публикациями), - вряд ли это маргиналы по преимуществу. Скорее, именно лиминалы (пока/если их идеи не победят). Для осмысления маргинала важнее идеи З. Баумана о таком «чужом», который принципиально не входит в бинарные оппозиции и не выступает при этом неким третьим началом, снимающим или примиряющим их. Этот «чужой», скорее, ставит под сомнение значимость подобного рода оппозиций. Маргинала может «затянуть» в эпицентр чужая борьба, но он не формирует новый облик социального центра, оставаясь при этом маргиналом. Таким образом, области смыслов «маргинальности» и «лими-нальности» пересекаются в том и только в том моменте, в котором они говорят о творческих потенциях благодаря утрате общезначимых норм. Но является ли эта область смысловым ядром маргинальности?
Следует обратиться и к коннотациям противоположной эпистемологической тенденции, поскольку оставить без внимания негативные аспекты маргинализации, удерживая в поле зрения лишь ее позитивные коннотации, было бы преступно. И не только потому, что процессы маргинализации действительно разрушительны. Многочисленные исследования в поиске детерминанты процессов маргинализации вновь и вновь говорят о специфической ментальности маргинала. Это закономерно, поскольку именно психологические характеристики выступили в качестве ключевых для открытия маргинала. Выводом в рамках «негативной» тенденции является идея о контроле за людьми по причине их предрасположенности к мар-гинальности. Но вряд ли только в этих рамках. Если мы согласимся с тем, что сущность маргинальности заключается в потенции обновления, то должны согласиться и с дальнейшим развитием мысли: обновление в значительной мере означает разрушение. Экстремум этой идеи предполагает, что «субъекты указанных (перспективных) отклонений и нарушений - преступники, с точки зрения большинства своих современников, но герои, с точки зрения будущих поколений. В свете этой гипотезы очевидно, что креативность и криминальность закономерно связаны: психология творчества и психология преступления - родственные явления» (Лобовиков 2015: 14). За пределами этого философского экстремума, однако, социальные науки (и сама действительность) предлагают множество примеров «чистой» негативности. Означает ли это, что мы должны все-таки свести маргинальность к труднои-скоренимой потребности некоторых индивидуумов уничтожить нормы и ценности своего социума? И, соответственно, должны ли мы признать необходимость превентивных контролирующих мероприятий по отношению к человеку, которому свойственна ментальность маргинала? Мысль сопротивляется такому решению - в первую очередь благодаря исторической памяти. Но исходя из целей философского анализа мы должны найти когнитивное основание для такого сопротивления - или отказаться от него.
Для этого следует выйти за пределы установок, которыми сформировался сам разговор о маргинале, затеянный чикагской школой. Данная
потребность сегодня проявляет себя все активнее. Множатся исследования, в которых анализируется маргинальность философии и литературы, новых научных парадигм и т.д. (Iser 1991; Sanchez; Ратиани; Солонин 2003). Но необходимо не просто экстраполировать результаты анализа социокультурных проявлений маргинальности на другие предметные сферы. В представлениях о маргинальности должны быть проанализированы сами установки, выводящие мысль именно на те ходы мысли, которые предполагает социологическое измерение. Это герменевтико-онтологическая проблема, связанная с концептом герменевтического круга, предмнения и т.п. Интерпретация явления предзадана установками мировидения (именно поэтому герменевтика Х.-Г. Гадамера выводит на онтологию); онтология может быть понята как условия понятности опыта (Оболкина 2017). Определенные условия понятности «сужают» пространство мыслимого (и как понятного, и как допустимого). Следует анализировать само онтологическое предмне-ние как условия понятности.
Мы рассуждаем о людях «на краю» общества, обращаемся к их ментальным характеристикам и выводим нечто обязательное для маргинала: чувство «неуютности» (его использует Парк). Однако взятое само по себе понятие «неуютность» совсем не обязательно предполагает агрессивность. Мысль о маргинальности все же делает этот дополнительный шаг: к смысловому ядру «края» добавляются мотивы «дна». В пространстве словарей интернет-ресурсов «край» уже и заменен «дном»: «Маргинализация - резкое понижение социального статуса группы или индивида, выталкивание на общественное дно» (Маргинализация...), а «маргинал» становится равнозначным «люмпену». Люмпен - человек «на дне» - вполне готов к преображению в агрессора, поскольку степень его социальной обделенности в той или иной степени угрожает его биологическим потребностям: ему нужно выжить. Но маргинал - это человек именно «края». «Край» же может быть понят как «дно», только если в нашем предмнении работает наглядный образ, подобный представлению о плоской земле на трех китах: оказаться на краю означает опасность рухнуть в бездну. Почему «быть на краю» в социальном смысле оказывается тождественным угрозе существованию (в неосознанном режиме рассуждения)? Что иное, как не страх общественного животного быть изгнанным из коллектива-стаи в чужое и потому смертельно опасное пространство, может диктовать нам такую картину мира? Это вопрос, выводящий за пределы нашего исследования. Хочется лишь отметить, что не поддаваясь отождествлению с «люмпеном», понятие «маргинал» сопротивляется сведению социального исключительно к биологическому. И в первую очередь потому, что оно вобрало в себя и знание о таком человеке, которого никто не вытеснял на край, который вполне успешен с точки зрения социального статуса, но который выбирает положение «на краю» с точки зрения идейного содержания. Причем это для него настолько важно, что он даже заигрывает с возможностью потерять свой статус, «опуститься на дно», стать люмпеном.
«Маргинал», таким образом, - понятие куда более емкое в отношении интенций смысла, если сравнивать с тем же «люмпеном». Но его проблема
заключается в том, что оно осуществляется амбивалентными интенциями. Если воспользоваться метафорой психологической амбивалентности, это не самая здоровая ситуация, и потому многие исследователи пытаются его «вылечить», отсекая смыслы. Но само напряжение разнонаправленных векторов создает данное понятие как прегнантное. Следует двигаться дальше от эмпирии к понятию, от явлений к самому слову - ведь именно оно притягивает коннотации и именует эмпирические феномены маргиналами.
Существует еще один смысл корня «марго»: маргиналии - это заметки, комментарии, рисунки на полях книги. Обычно если этот смысл и указывается, то лишь в качестве исторической справки (это опять же инициировано чикагской школой). Х. Вильджоен (УЩоеп 1998) делает это «факультативное» значение центральным в своих рассуждениях маргинала, создающего маргиналии по поводу маргинальности - это его собственное определение, в котором видимая тавтологичность концептуальна. Автор обитает «на краю» мира (Южная Африка) - если учитывать постколониальную диспозицию; и он пишет «заметки на полях основного текста» - если таковым считать социологический дискурс маргинальности.
Как показывает Вильджоен, говоря о маргинальности, мы обычно имеем в виду «далекие края самых окраин, внешние, более холодные, более темные области общества»; используем «концепции культуры или общества как четкого демаркационного пространства - пространства с определенными границами, где желательно быть как можно ближе к центру». Но это проблематично, ведь понятие «маргинальность» основано на метафоре написания: «печатная страница буквально не имеет четкого центра» (УПреп 1998: 10). «Маргинальность, по-видимому, указывает на границу вокруг определенного пространства без центра» (УПреп 1998: 11-12), отмечает автор и предполагает, что выбор метафоры круга и привилегированности его центра обусловлен повседневным опытом. Однако думается, что столкновение метафор - то есть выбор определенного когнитивного инструментария - основано не столько на повседневном опыте, сколько на особенностях функционирования архетипа «свой / чужой».
«Очевидно, что "своим", метафизически освоенным пространством являлось пространство (то, что простирается, рождает простор), непосредственно окружающее сакральный Центр Мира того или иного архаического коллектива - тотемный столб, культовое сооружение и т.д. <...> Соответственно, при удалении от этого Центра пространство теряет, "размывает" свои сакральные характеристики, переходя в собственную противоположность - пространство инфернально-античеловеческое» (Верховский 2014: 63). Этот архетип лежит в основе формирования метафоры социального «своего» как окружности-границы с обязательным центром. Мифологема иллюстрирует то онтологическое предмнение, которое чаще всего используется и в анализе маргинальности: по умолчанию предполагается наличие некоего центра-нормы и отклонений (дистанцирования) от него как вектора в сторону границ. Стоит, между тем, вытащить эту понятность «на свет» рефлексии - и мы оказываемся лицом к лицу с проблемой: для явления маргинальности измерение «свой/чужой» обязательно, но «столба-идола»
нет - о чем говорит и Вильджоен. Если что-то и может выступать в качестве такового аксиологического центра, то это идеализированная нормативность, абстрактный идеал человеческого общества как такового. Однако дискурс и его маргиналы всегда исторически и культурно конкретны. Что мы имеем вместо «столба-идола» в реальных сообществах? Как организуется пространство внутри «границ», по которым «обитают» маргиналы?
Вильджоен выделяет важность смысла «края», «границы» как Другого. Этот Другой выступает в качестве «условия для производства нашего дискурса (и всего положительного знания)» (Viljoen 1998: 20). Этот концепт близок понятию «докса», которое использует П. Бурдье (Бурдье). Его теория социальных полей, возможно, ближе всего к метафоре маргинальности как пустоты, окружающей поле текста. Докса - «основной текст» - область социальных автоматизмов, которые транслируются без каких-то специальных усилий, поскольку они обеспечены социальным капиталом. Область маргинальности - это принципиально «не основной текст», не докса, которую склонны сохранять «ортодоксы». Это «непереводимый другой», «ге-теродокс» («еретик» у Бурдье). И этот Другой выступает «границей» доксы. Есть и более фундаментальные философские обобщения подобного рода. Самопонимание, как показывает М.М. Бахтин, невозможно без интерпретации Другого; так же «социология Чужака», появлением которой мы обязаны Г. Зиммелю, диалогизм М. Бубера сформировали ставшую уже классической установку: Я выводится из столкновения с Ты; «свое» определяется через знание «чужого». Эта установка для анализа маргинальности важна, но лишь в качестве промежуточного этапа, поскольку маргинал - он и чужак, и свой. Маргинал не настолько далек, как совсем-другой, и он не только опасен как Чужак, но и незаменим как творец нового «своего». Есть, пожалуй, только один философски проработанный тип «своего-чужого», который осуществляется той же напряженностью амбивалентных интенций, что и «маргинал». Речь идет о homo sacer.
Homo sacer - формула древнего римского права, обозначающая человека, исключенного из общества «своих» во всех смыслах - политическом и религиозном. При этом он не «чужак», ведь чужак имеет определенный правовой статус. При этом homo sacer в особом смысле слова священен. Дж. Агамбен (Агамбен 2011) настаивает на необходимости видеть в homo sacer ключ для понимания государственной власти как таковой. Для нашего исследования важно философское обобщение, которое осуществляет исследователь. Рассуждая о homo sacer, он подчеркивает: «О нем в буквальном смысле нельзя сказать, находится ли он вне или внутри порядка (поэтому первоначально "in bando, a bandono" по-итальянски означает как "в чьей-либо власти, по чьему-то произволу", так и "по собственной воле, свободно": например, в выражениях "соггеге а bandono" и "bandito" это слово значит "исключенный, изгнанный", а в выражениях "mensa bandita", "а redina bandita" - "открытый для всех, свободный")» (Агамбен 2011: 41). Агамбен показывает, как исключение дает возможность осуществления нормального порядка: «В случае суверенного исключения речь в действительности идет не столько о том, чтобы контролировать или нейтрализовать избыточ-
ность, сколько о том, чтобы в первую очередь создать или определить само пространство, в котором политико-правовой порядок мог бы иметь силу» (Агамбен 2011: 27). «Маргинал» - он же «бандит» - концептуально близок анализируемой Агамбеном фигуре-пределу. Она есть «кризис какого-либо ясного различения между принадлежностью и включением, между тем, что находится вне, и тем, что внутри, между исключением и нормой» (Агамбен 2011: 35). Исследование гетерархии в понимании государственности подтверждает эту позицию: «Норма-монополия не может существовать без питающего ее пространства ненормальности. <...> Соответственно не-норма проявляется как "объект умолчания", "свой-иной", патологическое, ложное, подавляемое содержание, за счет которого, тем не менее, и оформляется привилегия нормы» (Мартьянов 2009: 238).
Таким образом, принимая тезис о важности «иного» в осуществлении «своего» (или «нормального»), в контексте исследования маргинальности требуется уточнить, что не знание о «чужом» определяет «нормальное». «Чужое» выступает оппозицией «своему». «Нормальное» в социальном смысле выступает актором оппозиции к «маргинальному» (как «ложному» и «патологическому»). Подчеркнем также, что речь при этом не идет о категории социальной идентичности, поскольку дело не в поиске тождества - с собой, этносом, нацией и т.п., но именно в социальной норме.
Норма связана с ожиданиями людей относительно исполнения индивидуумом своих социальных ролей (экспектациями). Система экспектаций регулируется требованиями соответствия, в первую очередь уподобления «значимым другим» (родители, учителя, герои и т.п.) - но скорее в режиме приближения, а не полного совпадения. Поэтому главным вопросом социальной нормы является проблема допустимых отклонений. И здесь функциональную роль играет не столько принятие (соответствие), сколько непринятие. Люди обретают представление о социально нормальном, отталкиваясь от образа «неправильных своих». И дистанцируясь от них, если этого требуют их личностные установки. Не алкоголик, не бомж - так, возможно, создается первичный уровень социальной нормы. Поэтому повседневная типизация, в том числе маргинала как «опасного своего», есть важнейший механизм защиты социальной нормы.
Отметим, что социальная норма - это не только вопрос приемлемости, но и вопрос достаточности. Осуществление «нормального поведения» для определенного сообщества можно сравнить с формированием речи ребенка. Лепет, как отмечают лингвисты, - это кладезь вокализмов всех возможных языков. Но, получая ответ от взрослого в форме всегда определенных звуков, ребенок осваивает определенный язык; речь (норма в определенном смысле) складывается методом исключения. Маргинал - это тот, кто не усвоил «язык нормы», но при этом отнюдь не «ребенок». Взрослый, не соответствующий общим экспектациям, может оцениваться людьми как незрелый, но если он при этом демонстрирует личностную состоятельность и активность, он воспринимается как опасный. Маргинал опасен для социальной нормы. Но чем может навредить норме - доксе, которая уверенно являет себя в форме социальных автоматизмов, какое-то «окраинное» сознание?
Социальная норма связана с самоконтролем, с определенным воздержанием. Маргинал - это далеко не всегда человек без самоконтроля, от которого ожидают бесчинств. Но это всегда человек, который воздерживается от меньшего, нежели человек нормы. Маргинал Парка не исключает приоритеты еще какой-то культуры помимо той, в которой пребывает; маргинал в криминалистическом плане сознательно не отказывается от смыслов вне норм права, а маргинал-люмпен опознаваем, как правило, по своей ненормативной лексике; маргинал по своей воле не сторонится идей и ценностей вне круга «нормальных» идей и смыслов для большинства членов его сообщества. Маргинал - всегда человек избытка, и само это богатство выступает конкурентом норме. Поэтому логика самосохранения социума требует сделать маргинала беднее, хотя бы отстранив от ресурсов социального и экономического капитала.
Но маргиналы при этом - отнюдь не исчезающий социальный вид; исследователи в один голос говорят об увеличении этого общественного слоя. По-видимому, маргинальность должна рассматриваться с позиции социальных функций, не сводясь при этом к функции творческого обновления, лиминальности.
«Маргинал отныне не какой-то чужак или прокаженный. Он схож со всеми, идентичен им и в то же время он калека среди себе подобных» (Фарж 1989: 145). Речь идет о тех, кого мы назвали маргиналами по своей воле. Рассуждая об этой «покалеченности», «болезни», мы можем невольно соединить понятия «болезнь» и «ущерб» (ущерб социальных функций). Но вспомним об особого рода «богатстве» маргинала и получим совпадение с философским по своей сути прозрением психоневролога О.Сакса: болезнь не всегда означает дефициты (ущерб) функций, часто это как раз избытки. Кардинальная смена предмнения (условий понятности) помогла врачу лучше лечить, и она же помогает нам лучше понять маргинальность: это некий плюс, добавочная опция. Необходимым оказывается и «лирическое отступление» авторов межкультурного исследования: «По случайному созвучию это слово ассоциируется с санскритской категорией "марга", означающей свободно отыскиваемый человеком духовный путь» (Рашковский 1989: 147). Эта мысль резко контрастирует с расхожим объяснением роста маргинальное™ отсылками к «бездуховности, поразившей наше общество». В отношении маргинальности как «покалеченности» эвристичнее оказывается логика избытков: «добавочная опция» начинает функционировать тогда, когда человек делает себя инструментом оценки и сверки; непрочность «столба-идола» - пороки нормы - переживается им как личный дискомфорт.
Таким образом, маргинальность может быть понята как такой тип сознания и поведения, который не является культурно чуждым, но по отношению к которому в форме отрицания выстраивается представление о социальной норме конкретного сообщества. Социальная функция маргинала является конструктивной, хотя необходимо включает потенции разрушения. Не всегда осознанными манифестациями, но всегда фактом своего существования маргиналы дают возможность ставить вопрос о доброкачественности нормы.
Маргиналистика как область социальных исследований может выступать элементом саморефлексии конкретного социума. «Каковы характеристики нашей нормы? И нормальна ли наша "нормальность"?» - это вопросы, ответить на которые означает вглядеться в конкретные характеристики маргинальное™ для определенного сообщества. Но при этом для самой маргиналистики важны не только ответы частных наук (социологии, культурологи, психологии и т.п.), но и философская рефлексия. Маргина-листика должна быть фундирована анализом онтологических, аксиологических, гносеологических и других оснований, иметь возможность выбора когнитивного инструментария как вариантов подхода к этому сложному и многогранному объекту.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Агамбен Дж. 2011. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М. : Европа. 256 с.
Атоян А.И. 1993. Социальная маргиналистика. О предпосылках нового междисциплинарного и культурно-исторического синтеза // ПОЛИС : Полит. исслед. № 6. С. 29-38.
Балла О. Живущие на краю [Электронный ресурс]. URL: http://www.astrosearch. ru/info/social_sciences/marginals_1.html#.WlXa1R_Jz58 (дата обращения: 10.01.2018).
Бейлис В.А. 1983. Теория ритуала в трудах Виктора Тэрнера // Тэрнер В. Символ и ритуал. М. : Наука. С. 7-30.
Бурдье П. Некоторые свойства полей [Электронный ресурс]. URL: http: // bourdieu. name/content/nekotorye-svojstva-polej (дата обращения: 10.01.2018).
Верховский И.А. 2014. Мифологема «свое-чужое» в архаической мирорефлек-сии (опыт философской интерпретации) // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Т. 14, вып. 3. С. 58-69.
Галкин А.А. (рук.) 1987. На изломах социальной структуры / рук. авт. коллектива А.А. Галкин. М. : Мысль. 315 с.
Ионин Л.Г. 2004. Социология культуры. Изд. 4-е, перераб. и доп. М. : Издат. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики. 427 с.
Лимонов Э. Другая Россия. Очертания будущего [Электронный ресурс]. URL: http://nbp-chuvashia.narod.rU/biblio/Limonov/Drugaya_Rossija.htm#lection8 (дата обращения: 10.01.2018).
Лобовиков О.В. 2015. Криминология, история философии и дискретная математическая модель формальной аксиологии преступной деятельности («По понятиям» ли мыслили и жили выдающиеся философы?) // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Т. 15, вып. 4. С. 5-24.
Мамардашвили М.К. 2002. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Философские чтения. СПб. : Азбука-классика. С. 7-172.
Маргинализация [Электронный ресурс] // Wiki-linki. URL: http://wiki-linki.ru/ Page/1493092 (дата обращения: 10.01.2018).
Мартьянов В.С. 2009. Государство и гетерархия: субъекты и факторы общественных изменений // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Вып. 9. С. 230-248/
Оболкина С.В. 2017. Онтология: от Парменида к Мейясу // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. № 1. С. 50-58.
Парк Р.Э. 1998. Человеческая миграция и маргинальный человек // Социал. и гуманит. науки. Сер. 11. Социология. № 3. С. 167-176.
Ратиани И. Теория лиминальности. Проблема антропологии и современного литературоведения [Электронный ресурс]. URL: http://irmaratiani.ge/teoria.htm (дата обращения: 10.01.2018).
Рашковский Е. 1989. Маргиналы // 50/50. Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М. : Прогресс. С. 146-149.
Солонин Ю.Н. 2003. Маргинальность в философии: опыт ее позитивной оценки в историко-философском понимании // Логико-философские штудии. № 2. С. 286-302.
Степаненко Р.Ф. 2012a. Генезис общеправовой теории маргинальности. Казань : Ун-т управления ТИСБИ. 268 с.
Степаненко Р.Ф. 2012b. Феномен маргинальности: историко-правовые аспекты // Ученые зап. Казан. ун-та. Т. 125, кн. 4. С. 34-39.
Стоунквист Э.В. 1979. Маргинальный человек. Исследование личности и культурного конфликта / реф. подгот. Е.А. Веселкиным // Современная зарубежная этнопсихология. М. С. 91-112.
Тэрнер В. 1983. Символ и ритуал. М. : Наука. 277 с.
Фарж А. 1989. Маргиналы // 50/50. Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М. : Прогресс. С. 143-146.
Шибутани Т. 1999. Социальная психология. Ростов н/Д. : Феникс. 544 с.
Iser W. 1991. Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main : Suhrkamp. S. 522.
Sanchez J. Liminality, Marginality, Futurity: Case Studies in Contemporary Science Fiction [Электронный ресурс]. URL: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1023&context=anthro_seniortheses (дата обращения: 10.01.2018).
Viljoen H. 1998. Marginalia on Marginality // Alternation. № 5, 2. P. 10-22.
■ S. Obolkina. Filosofskiy analiz problemy marginal'nosti
llvl [Philosophical analysis of marginality problem], Nauch. &L ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-niya Ros. akad. nauk, 2018, vol. l8, iss. 2, pp. 7-20. (in Russ.).
Svetlana V. Obolkina, Candidate of Philosophy, Assistant Professor, Educational Department of Philosophy, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia. E-mail: obol2007@mail.ru ORCID ID: 0000-0002-6644-104X
Article recived 10.10.2017, accepted 05.12.2017, available online 01.07.2018
PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF MARGINALITY PROBLEM
Abstract. The article analyzes the notions of marginality in socio-psychological and cultural dimensions. Today, two opposing epistemological tendencies have emerged: first, marginality is assessed positively as a synonym for the notion of creative renewal. The second tendency emphasizes the destructive role of marginality for the individual and society. Primarily, these tendencies are formed due to not quite correct approximation,
and even identification of two meanings: "liminality" - "marginality", on the one hand, and "lumpen" - "marginal", on the other. Therefore, the scope of the concept of "marginal" is so wide, and often includes phenomena with the opposite social function, which causes many researchers to doubt its scientific significance. The intention of the article is philosophical reflection over cognitive attitudes, which has created modern understanding of marginality. The goal is to find semantic constant in equally important but opposite semantic vectors of this concept. The key concept of the meta-language in relation to the theme of marginality is concept's prehension category, which makes possible to talk about specifics of convergent meanings, and to consider ontological prerequisites underlying their identification. Further, modern understanding of social marginality is analyzed in the context of its original meaning: "marginalia" as a note on page side (margin). This helps to rethink the fundamental metaphor serving as the cognitive guide to the study of marginalization process. The author examines it in the context of P. Bourdieu's theory of social fields, as well as the philosophy of the Other. The notion of the mythologeme "own/alien", and "homo sacer" formula in solving the question of semantic constant of "marginality" suggests that marginality is related to the category of social norm, and the norm itself is apophatically determined by the phenomenon of marginality.
Keywords: marginal, marginality, liminality, lumpen, concept's prehension, doxa, social norm.
References
Agamben G. Homo sacer. Suverennaya vlast i golaya zhizn [Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life], Moscow, Evropa, 2011, 256 p. (in Russ.).
Atoyan A.I. Sotsialnaya marginalistika. O predposylkakh novogo mezhdistsiplinarnogo i kul'turno-istoricheskogo sinteza [Social marginality. About the prerequisites for new interdisciplinary and cultural-historical synthesis], POLIS : Politicheskie issledovaniya, 1993, no. 6, pp. 29-38. (in Russ.).
Balla O. Zhivushchie na krayu [Living on the edge], available at: http://www. astrosearch.ru/info/social_sciences/marginals_1.html#.WlXa1R_Jz58 (accessed January 10, 2018). (in Russ.).
Beylis V.A. Teoriya rituala v trudakh Viktora Ternera [The theory of ritual in the writings of Viktor Turner], V. Terner, Simvol i ritual, Moscow, Nauka, 1983, pp. 7-30. (in Russ.).
Bourdieu P. Nekotorye svoystva poley [Some Properties of Fields], available at: http:// bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej (accessed January 10, 2018). (in Russ.).
Farzh A. Marginaly [Marginals], Yu. Afanasev i M. Ferro (eds.), 50/50. Opyt slovarya novogo myshleniya, Moscow, Progress, 1989, pp. 143-146. (in Russ.).
Galkin A.A. (head of team of autors) Na izlomakh sotsialnoy struktury [On the fractures of the social structure], Moscow, Mysl', 1987, 315 p. (in Russ.).
Ionin L.G. Sotsiologiya kul'tury [Sociology of culture], 4 ed., rev. and augm., Moscow, Izdat. dom Gos. un-ta - Vyssh. shk. ekonomiki, 2004, 427 p. (in Russ.).
Iser W. Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie [The fictional and the imaginary. Perspectives of literary anthropology], Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, 522 p. (in German).
Limonov E. Drugaya Rossiya. Ochertaniya budushchego [Other Russia. Future outlines], available at: http://nbp-chuvashia.narod.ru/biblio/Limonov/Drugaya_Rossija. htm#lection8 (accessed January 10, 2018). (in Russ.).
Lobovikov O.V. Kriminologiya, istoriya filosofii i diskretnaya matematicheskaya model' formal'noy aksiologii prestupnoy deyatelnosti («Po ponyatiyam» li myslili i zhili vydayushchiesya filosofy?) [Criminology, history of philosophy, and discrete mathematical
model of criminalactivity (were the outstanding philosophers authentic criminals?)], Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Uralskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, 2015, vol. 5, iss. 4, pp. 5-24. (in Russ.).
Mamardashvili M.K. Vvedenie v filosofiyu [Introduction to philosophy], M.K. Mamardashvili, Filosofskie chteniya, St. Petersburg, Azbuka-klassika, 2002, pp. 7-172. (in Russ.).
Marginalizatsiya [Marginalization], available at: http://wiki-linki.ru/Page/1493092 (accessed January 10, 2018). (in Russ.).
Martyanov V.S. Gosudarstvo i geterarkhiya: sub»ekty i faktory obshchestvennykh izmeneniy [The state and heterarchy: actors and factors of social change], Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Uralskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, 2009, vol. 9, pp. 230-248. (in Russ.).
Obolkina S.V. Ontologiya: ot Parmenida k Meyyasu [Ontology: from Parmenide to Meillassoux], Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, no. 1, pp. 50-58. (in Russ.).
Park R.E. Chelovecheskaya migratsiya i marginal'nyy chelovek [Human migration and the marginal man], Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Ser. 11. Sotsiologiya, 1998, no. 3, pp. 167-176. (in Russ.).
Rashkovskiy E. Marginaly [Marginals], Yu. Afanasev i M. Ferro (eds.), 50/50. Opyt slovarya novogo myshleniya, Moscow, Progress, 1989, pp. 146-149. (in Russ.).
Ratiani I. Teoriya liminal'nosti. Problema antropologii i sovremennogo literaturovedeniya [The theory of Liminality. The problem of anthropology and modern literary studies], available at: http://irmaratiani.ge/teoria.htm (accessed January 10, 2018). (in Russ.).
Sanchez J. Liminality, Marginality, Futurity: Case Studies in Contemporary Science Fiction, available at: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1023&context=anthro_seniortheses (accessed January 10, 2018).
Shibutani T. Sotsial'naya psikhologiya [Society and Personality], Rostov-on-Don, Feniks, 1999, 544 p. (in Russ.).
Solonin Yu.N. Marginal'nost' v filosofii: opyt ee pozitivnoy otsenki v istoriko-filosofskom ponimanii [Marginality in philosophy: experience its positive assessment of the historical and philosophical understanding], Logiko-filosofskie shtudii, 2003, no. 2, pp. 286-302. (in Russ.).
Stepanenko R.F. Fenomen marginal'nosti: istoriko-pravovye aspekty [The phenomenon of marginality: historical and legal aspects], Uchenyezap.Kazan. universiteta, 2012, vol. 125, b. 4, pp. 34-39. (in Russ.).
Stepanenko R.F. Genezis obshchepravovoy teorii marginal'nosti [Genesis of the General legal theory of marginality], Kazan, Un-t upravleniya TISBI, 2012, 268 p. (in Russ.).
Stonequist E.V. Marginal'nyy chelovek. Issledovanie lichnosti i kulturnogo konflikta [The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict: abstr. of the E.A. Veselkin], Sovremennaya zarubezhnaya etnopsikhologiya, Moscow, 1979, pp. 91-112. (in Russ.).
Turner V. Simvol i ritual [The Forest of Symbols], Moscow, Nauka, 1983, 277 p. (in Russ.).
Verkhovsky I.A. Mifologema «svoe-chuzhoe» v arkhaicheskoy mirorefleksii (opyt filosofskoy interpretatsii) [Mythologem of «own-alien» in archaic reflection of the world (attempt of philosophical interpretation)], Nauchnyy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Uralskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, 2014, vol. 14, iss. 3, pp. 58-69. (in Russ.).
Viljoen H. Marginalia on Marginality, Alternation, 1998, no. 5, 2, pp. 10-22.





 CC BY
CC BY 248
248