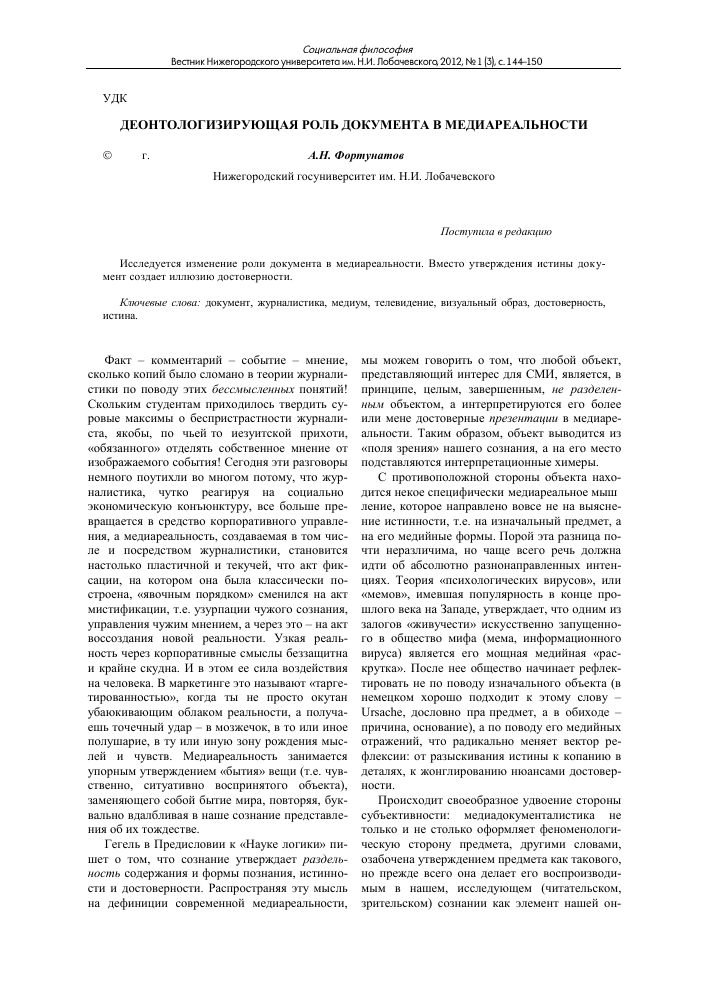Социальная философия Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 1 (3), с. 144-150
УДК 101.1:316
ДЕОНТОЛОГИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ ДОКУМЕНТА В МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ
© 2012 г. А.Н. Фортунатов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
anfort@mail.ru
Поступила в редакцию 30.04.2012
Исследуется изменение роли документа в медиареальности. Вместо утверждения истины документ создает иллюзию достоверности.
Ключевые слова: документ, журналистика, медиум, телевидение, визуальный образ, достоверность, истина.
Факт - комментарий - событие - мнение, сколько копий было сломано в теории журналистики по поводу этих бессмысленных понятий! Скольким студентам приходилось твердить суровые максимы о беспристрастности журналиста, якобы, по чьей-то иезуитской прихоти, «обязанного» отделять собственное мнение от изображаемого события! Сегодня эти разговоры немного поутихли во многом потому, что журналистика, чутко реагируя на социальноэкономическую конъюнктуру, все больше превращается в средство корпоративного управления, а медиареальность, создаваемая в том числе и посредством журналистики, становится настолько пластичной и текучей, что акт фиксации, на котором она была классически построена, «явочным порядком» сменился на акт мистификации, т.е. узурпации чужого сознания, управления чужим мнением, а через это - на акт воссоздания новой реальности. Узкая реальность через корпоративные смыслы беззащитна и крайне скудна. И в этом ее сила воздействия на человека. В маркетинге это называют «тарге-тированностью», когда ты не просто окутан убаюкивающим облаком реальности, а получаешь точечный удар - в мозжечок, в то или иное полушарие, в ту или иную зону рождения мыслей и чувств. Медиареальность занимается упорным утверждением «бытия» вещи (т.е. чувственно, ситуативно воспринятого объекта), заменяющего собой бытие мира, повторяя, буквально вдалбливая в наше сознание представления об их тождестве.
Гегель в Предисловии к «Науке логики» пишет о том, что сознание утверждает раздельность содержания и формы познания, истинности и достоверности. Распространяя эту мысль на дефиниции современной медиареальности,
мы можем говорить о том, что любой объект, представляющий интерес для СМИ, является, в принципе, целым, завершенным, не разделенным объектом, а интерпретируются его более или мене достоверные презентации в медиареальности. Таким образом, объект выводится из «поля зрения» нашего сознания, а на его место подставляются интерпретационные химеры.
С противоположной стороны объекта находится некое специфически-медиареальное мышление, которое направлено вовсе не на выяснение истинности, т.е. на изначальный предмет, а на его медийные формы. Порой эта разница почти неразличима, но чаще всего речь должна идти об абсолютно разнонаправленных интенциях. Теория «психологических вирусов», или «мемов», имевшая популярность в конце прошлого века на Западе, утверждает, что одним из залогов «живучести» искусственно запущенного в общество мифа (мема, информационного вируса) является его мощная медийная «раскрутка». После нее общество начинает рефлектировать не по поводу изначального объекта (в немецком хорошо подходит к этому слову -Ursache, дословно пра-предмет, а в обиходе -причина, основание), а по поводу его медийных отражений, что радикально меняет вектор рефлексии: от разыскивания истины к копанию в деталях, к жонглированию нюансами достоверности.
Происходит своеобразное удвоение стороны субъективности: медиадокументалистика не
только и не столько оформляет феноменологическую сторону предмета, другими словами, озабочена утверждением предмета как такового, но прежде всего она делает его воспроизводимым в нашем, исследующем (читательском, зрительском) сознании как элемент нашей он-
тологии. И в этом заключена колоссальная разница. Медиадокументалистика словно сама становится «предметом», в котором обрывается жизнь действительности и начинается новый, полный фантастических и замысловатых превращений процесс псевдобытия. Сознание юзера (потребителя информации), с его избыточной эмоциональной энергией, не замечает этой подмены, поскольку формальная, презентационная часть медийно «уничтоженного» предмета вполне отвечает нашим привычным представлениям о формах проявления бытия.
«Достоверность» предметов в медиареальности не требует подтверждений. Отсылая нас к простейшим формам восприятия, она тем самым снимает с нас естественную настроенность на истину. Вот почему конвенциональность такой документальной недостоверности замыкает мир на самом себе, заставляя человека определенным образом настраиваться на включенность в систему этого мира. «Полый человек» (в ницшеанском смысле) компенсируется не выстраданными субъективно-личностными, а якобы «объективно»-медийными смыслами, прикладывая усилие не в отношении самого себя, а в отношении своего медийного образа, своей информационной голограммы, находящейся в медиареальности. Усилие есть, должен, вероятно, как подсказывает житейская логика, быть и результат. Конвенциональность медиаповедения становится онтологической границей, разделяющей человека социального и человека медиареального, ставя эти две ипостаси в ситуацию имплицитного противопоставления. Социальный характер недостоверности преумножается самой этой недостоверностью, образующей, таким образом, знак равенства между социальным бытием и иллюзорным, мнимым бытием. Мнимая документальность, мнимая фактографичность медиареальности есть ее избыточное качество, не замыкающееся лишь в узком круге медийного мира, поскольку мнимое всегда шире существенного, поэтому неоспоримее и достовернее. Вот почему в конце концов мнимая документальность порождает мнимую социальность, которая не просто иллюзорна, а, в определенном смысле, антисоциальна.
Приведем несколько примеров. Так, повышенные суицидальные мотивы в психологических установках представителей некоторых молодежных субкультур (так называемые «готы» и «эмо кидс»), а также серия реальных самоубийств, грозившая превратиться в настоящую «вертеровскую» эпидемию, стали основанием для того, чтобы УФСБ по Нижегородской области весной 2008 года специально обратилось в
областное министерство образования с настоятельной рекомендацией проводить более тщательную и активную социальную работу с представителями данных молодежных субкультур. Медиареальность, понимаемая по-маклюэнски широко, не просто как реальность СМИ, но и как реальность любых медийных институтов, стала фактически уничтожать реальную социальность, или, вернее сказать, социальность Реального. К сожалению, волна суицидов вновь накрыла общество в 2012 году, и здесь очень характерна растерянность и непонимание социальных служб, системы образования причин этих трагедий, связанных, очевидно, с новым ментальным строем подростков, замешанным на виртуальных образах.
Пример из другой области. В Германии еще в 1987 году федеральным правительством была назначена авторитетная «комиссия по насилию», состоявшая из психологов, социологов, медиаспециалистов, представителей общественности. Комиссия должна была сделать ряд предложений по поводу обуздания медианасилия. Власть социального, другими словами, должна была продемонстрировать свое главенство над медиальным, что ей, согласно уже установленной нами закономерности, не удалось в полной мере, поскольку лейтмотив рекомендаций касался лишь добровольного «самоограничения СМИ», т.е. был заведомо утопичным. Основная проблема состояла в том, что социальная рефлексия по поводу медиареальности осуществлялась в категориях самой медиареальности, т.е. живущей по собственным законам сущности. В результате выводы, которые с точки зрения социальной коммуникации были преисполнены мужества и гражданской ответственности, имели, тем не менее, хоть и авторитетный и обвинительный, но все-таки в большей степени беспомощно-констатирующий характер.
Показательны некоторые резюме этого исследования. СМИ, по утверждению авторов, играют все более значительную роль, которая раньше вменялась в обязанность школам, церкви и семье, и имеют влияние на ценности, целевые установки и стили отношения в обществе, а телевидение стало «основным инструментом индустрии сознания». Средства массовой коммуникации, хотя и заменяют собой прежние прочные социальные институты, однако нравственные ценности, которые они несут с собой, если вообще позволительно говорить о каких-либо нравственных ценностях в современных СМИ, не представляют собой адекватной замены прежним основам мировоз-
зрения. Ситуация становится угрожающей, считают исследователи.
СМИ содействуют утверждению социальных клише, «образов врага» через «упрощенную и вместе с тем неизбежно фальсифицированную иллюстрацию действительности». Клишированные представления очень опасны, поскольку на их основе, скажем, простой оппонент прямо идентифицируется с врагом. Однако если быть более точным, то следовало бы все-таки сказать, что это не только клише, то есть повторение определенных стереотипов, ставших устойчивыми представлений, но упрощенное, прими-тивизированное, а стало быть, искаженное клише, искаженная картина мира, выдаваемая массмедиа за реальность.
Участие людей в общественной жизни становится в таких условиях все более незначительным: отход от общности, социальная дезинтеграция способствуют развитию девиантных отношений и преступности в самых различных ее проявлениях.
Телевидение методично и неизбежно создает мрачную картину действительности. Это вызвано тем, что релевантная для телевизионного языка информация чаще всего носит агрессивно-разрушительный характер: сенсационность, к которой стремятся СМИ, может привести к формированию негативных представлений о мире. Представление социальных катастроф и катастроф в окружающей среде, а также политических и экономических скандалов ведет к тому, что в значительной части аудитории, и прежде всего у молодежи, возникает «настроение последнего срока».
Особенное значение для стимулирования различных видов преступности, в том числе с элементами насилия, имеют сами изображения насилия в качестве некой неизбежной данности и, как следствие, легитимация насилия в средствах массовой информации. Изображение насилия - это вербальная и/или оптическая презентация физического и психического насилия. Согласно выводам исследователей, сознательное занижение социальной роли, атака на самосознание и достоинство отдельных социальных групп в телевизионных программах также фактически оправдывают насилие. Особенно это касается женщин, чье достоинство и честь унижаются, в частности, порнографическими картинками.
Изображение насилия имеет значительную долю во всех программах телевидения, однако в анализе его причин реципиентам отказывают регулярно. Насилие просто оправдывается силой, идеализируется и предстает на экране в
виде бессвязной action. Картины насилия непосредственно запечатлеваются в сознании, поскольку информация, предлагаемая этими картинами, вовсе не стимулирует размышления [1, с. 82].
В таких коллизиях вполне «естественным» образом незаметно утрачивается первопричина, первопредмет, послуживший толчком к построению медиахимер. Его повторный выход на авансцену медиареальности в лучшем случае вызывает недоумение, а в худшем - просто нежелателен, порождает отторжение со стороны аудитории. Недоумение, впрочем, как форма мышления, предшествующая сознательному освоению предмета, пониманию (коррелирующая с хайдеггеровской «озабоченностью» миром), но не заменяющая его собой, тоже может стать поводом для фактографических или документальных «фокусов», но лишь для того, чтобы породить сомнения и лишь еще больше сгустить туман неистинности. Смакование неприглядных подробностей смертей Майкла Джексона или певицы Уитни Хьюстон, бесцеремонные репортажи, повествующие о спившихся, деградировавших, глубоко больных кумирах прежних лет, бесконечные светские хроники, призванные показать жизнь «как она есть на самом деле», - подобная вереница жанров как раз и призвана обеспечить «фактографией» эту иррациональность аудитории.
Специально подчеркнем этот важнейший пласт обоснований медиареальности: сугубая чувственность документалистики, идущая от утверждения визуализированности бытия как его якобы «истинности». Достоверность, противопоставленная истинности, порождает бурные и неудержимые напластования умозаключений, прочность которых спрятана исключительно в их рекурсивности, в саморазвитии. Возникает вполне очевидный вопрос, за счет какой энергии это самопорождение происходит и почему в определенный момент медиапризраки вдруг распадаются, как старая штукатурка, и начинают вызывать недоумение или смех.
Одно из качеств документальной недостоверности - это застывшая или искаженная темпо-ральность. Время, раскручиваемое медиареальностью, неудержимо уносит с собой социальные дефиниции, заставляя их постоянно плодиться и уничтожать своих предшественников. И при этом остаются «вешки» времени в виде застывших, словно соляные столбы, фигур, дат, катастроф и скандалов, призванных быть лишь иллюзорными сигналами в нашей медийной системе координат. Как писал Гегель, «чтобы проверить истину этой чувственной достоверности,
достаточно простого опыта. Мы запишем эту истину; от того, что мы ее запишем, истина не может проиграть, как не может она проиграть от того, что мы ее сохраняем. Если мы опять взглянем на записанную истину теперь, в этот полдень, мы должны будем сказать, что она выдохлась» [2, с. 103]. Неторопливое размышление, в которое погружает классический философский дискурс, конечно же, приведет к такому очевидному выводу. Но где в неклассической медиареальности взять эту роскошь неторопливости?!! К тому же акт записи в медиареальности - это ни много ни мало как раз тот самый акт смыслового наполнения социально «полого» человека, его искусственное продуцирование. Сакральный акт соотнесения с бытием, которое на поверку оказывается медиареальностью. Медиасистемы, формируя в лихорадочной быстроте новый тип человека, умножают и умножают факты, цепляясь за уже произнесенные слова и зафиксированные события. Их очевидность подтверждается не размышлением, и даже не восчувствованием, а наличием других фактов. Усомниться в истинности одного из них означает усомниться в том, являюсь ли я человеком (в окружающей нас медиареальности, конечно). Не в этом ли причина подростковых конфликтов с социальной реальностью, приводящих к человеческим катастрофам? Призрачная прочность медиареальности здесь обеспечивается еще и специфическим динамизмом развертывания медиаобразов, который одновременно еще больше утверждает статику и неповоротливость социальных дефиниций.
Второе качество медиадокументалистики -негативность по отношению к бытию, можно сказать, антионтологичность. Все переворачивается с ног на голову (и в этом залог прочности медиасооружений): люди, цифры, даты. А иначе и быть не может в метареальности, отважно претендующей на диалектическую несуразицу -объединить в себе объективное и субъективные начала нашего мира.
Именно этим объясняется специфика медиа-реальных документов, отличающая их, скажем, от документов, печально влачащих жалкое существование в архивах. Они, словно размалеванные трупы, исполняют макабрические танцы перед завороженной толпой - в точности как тот «результат», который, по Гегелю, безоглядно оставил «позади себя тенденцию». Гинволь-ность, тяготение к Танатосу можно расценить как неявный итог царящего в медиареальности убивания всего живого, прежде всего мысли.
Таким образом, степень «живучести» медиадокументов - в глубине антионтологичности, извращенности интерпретаций бытия, в
быстроте перевода социальных событий в пошловатый медийный мейнстрим. Визуальная документалистика - буфер между растерянным Я, которое должно реагировать на хаос бытия, и информационными стрелами, камнями, мусором, которые сыплются на головы потребителей информации ежечасно. В этом ее особенный, своеобразный эстетизм. Нужно остановить социальное время в самый неожиданный, точнее сказать, неуместный момент и сделать его центром общественного внимания. Потом - переключить это внимание на очередную несуразицу. Знаменитая фотография Барбары Клемм, классика немецкой фотожурналистики, корреспондента газеты «Франкфуртер цайтунг», - это снимок, фиксирующий «жаркий» поцелуй Эриха Хонеккера и Леонида Брежнева, руководителей ГДР и СССР. Этот ракурс стал символом уходящего советского времени, объектом насмешек и презрения. Однако если совершенно «по-гегелевски» взглянуть на него сегодня, то на фоне педофильских скандалов в Ватикане или подобных разоблачений в высших эшелонах власти в России, такое приветствие может показаться целомудренно-спартанским знаком дружеского внимания, и не более того. Им оно, впрочем, и было в момент съемки, но, став документом, превратилось в полупорнографиче-ский перформанс.
Следует отметить, что в медиадокументалистике речи не идет (да, справедливости ради, она и сама не ставит этот вопрос) о том, насколько вычурным и «искусственным» является предъявляемый публике «документ». Ведь равным образом «ненастоящесть» может трактоваться и как следствие чрезмерного творческого вторжения в фиксацию реальности, так и наоборот, как заведомая техническая механистичность в ее воспроизведении. Вот, например, несколько парадоксальная точка зрения исследователя: «Лишь в XXI веке в России началось возрождение художественной фотографии, несомненно под влиянием западного фотоискусства. Но до сих пор большинство снимков представляют собой искусственный, полученный механическим путем образ, причем влияние фотографа при автоматической съемке вообще минимально» [3, с. 298].
Тоска, ностальгия по творческой свободе -не это ли повод для подобных размышлений? В обоих случаях - и тогда, когда фотохудожник чувствует себя демиургом, и тогда, когда он лишь механически нажимает кнопку автоматического затвора, он не может ничего сделать с «выпорхнувшей птичкой» - документом, становящимся в самый момент его создания отрица-
нием объекта съемки. Растерянность от отсутствия системы эстетических или этических координат приводит к экстремизму: исследование жизни с помощью искусства изжило себя, а документальная фиксация жизни еще больше удаляет человека от реальности. Где же истина в царстве многоликой достоверности?
Вспомним третье качество документалистики, одно из фундаментальных: она формирует отношение, а не образ предмета. Это существеннейшая сторона медиапроцессов, т.к. мейн-стримность - это одно из необходимых условий рекурсии. Медиасистемы, обеспечивающие социокультурный каркас медиареальности, устроены таким образом, что им совершенно неинтересно, что думает человек по поводу предъявляемых ему медиафактов. Гораздо важнее, в каком он настроении и что нужно сделать для того, чтобы ассоциативная связь с получаемыми картинками приводила к психологическому комфорту или просто к привязанности, к тяготению к медиаисточнику, к наркотическому стремлению вновь и вновь получать эту болезненно-сладостную иллюзию социального присутствия.
Многие философы, по традиции, склонны обвинять во всем человека - такого, дескать, «ленивого и нелюбопытного», для которого медиасуррогаты куда важнее личностного, мужественного освоения мира. Лукавство такой позиции состоит как раз в забвении важнейшего структурного элемента медиареальности: отсутствие логики, внятной мысли заменяется вихрем чувств, эмоций, т.е. человеку предлагается совершенно другая мера и система отождествления. При чем тут его усилия или их отсутствие? Можно сказать, что чувственное восприятие - единственно возможное в медиареальности, это ее язык. Ведь объективно говоря, любая фактография в медиареальности направлена на изменение существующей системы ценностей, стереотипов или просто представлений. Без такой подоплеки факт не найдет себе места в СМИ (в теории журналистики это свойство медиафакта называют странным словом «неба-нальность»).
Документ, формирующий отношение, таким образом, заменяет собой человека - не потому, что человеку ничего не остается, как только принять его, документ, а следовательно, и его отношение как данность. Документ обеспечивает эмоциональную фиксацию этого отношения, т.е. бьет точно в самое сердце субъективизма, обыденной чувственности, которая наполняет собой субъектную повседневность. Стенки «полого сосуда» - медиального человека -
настолько близко подходят друг к другу, что превращаются в монолит, внутри которого невозможно предпринять усилия по «наполнению», поскольку и наполнять-то уже нечего. Человек превращается в тень документа, равно как предмет становится такой же, только зеркальной его тенью. Такая бытийная отстраненность очень важна: на авансцене красуется медиадокументалистика, переливаясь красками и нюансами интерпретаций, а в серый фон, в отвал, уходит бытие, словно отработанный шлак медиареальности.
Так возникает еще один вывод. Уничтожая человека и предметность как свои прасущности, медиареальность пожирает сама себя. Это касается не только суицидов, не только жестокости и насилия, которые отраженным «светом» (скорее «тьмой») воздействуют на «реальное» общество. Это касается не только указанной нами трансформации медиасистем в плоскость мани-пулятивно-рекламного воздействия, в ущерб классической фактографичности. Противопоставляя себя онтологии, роняя зерна сомнения в оправданности онтологических ориентиров, медиареальность легитимирует весьма серьезные и далеко идущие тенденции «ре-онтологизации» современного человека, опустошенного борьбой с химерическими построениями, но одновременно утратившего твердость восприятия прежних, классических признаков бытия.
Причина этой тенденции вскрывается достаточно просто, если взглянуть на пра-предмет (на и^аЛе) самой медиареальности. Изначально медиумная, т.е. посредническая роль ее была призвана обеспечивать связь между человеком и миром, должна была служить надежной площадкой, фундаментом, на который человек мог бы опереться в процессе своего субъектного наполнения. Это лукавство человека по отношению к самому себе (истинная прочность не вовне, а внутри) отразилось в сути, в специфике самой медиареальности, постепенно ставшей воплощенным лукавством. Лукавый медиум (Фигаро, интер-прератор, насмешник) всегда ускользал от беспристрастной оценки, да и как было бы иначе, если этого фактически желал его «строгий» хозяин?
Мистическая связь медиума и человека (документа и социальной личности) основывалась на вере в тождество документа и реальности, на безусловном постулате соответствия технически обеспеченной достоверности бытию, т.е. истине. Истинность оправдывалась техническим совершенством - самым несовершенным
из всех придуманных человечеством за всю свою историю аргументов. Именно в этом контексте происходило бурное развитие медиареальности, построенной прежде всего на визуальном отображении (фиксации) действительности. Первые механические телевизионные системы довоенного времени были чрезвычайно сложными, искусственными и громоздкими механизмами, заставлявшими людей, участвующих в их работе (легитимации), свято верить в их надежность и адекватность существующему миру. Так, например, дабы обеспечить максимальное «соответствие» черно-белой картинки контрастам передаваемого ею мира, артистов гримировали в специальный зеленый (его называли «лягушачьим) грим. Красное знамя, часто красовавшееся на экранах малострочных механических телевизоров, которые умельцы собирали в Москве из специально купленных в магазинах юных техников наборов, на поверку оказывалось куском зеленого сукна. Ну, и, конечно, сама аудитория, судорожно всматриваясь в бликующие, размытые очертания, верила в то, что это и есть настоящая жизнь. Такая ситуация продолжалась долгие годы. И в то время, когда был постепенно введен цвет в телевидении, призванный обеспечить «абсолютную адекватность» телевизионного изображения миру, в США аббревиатуру, обозначающую американскую систему телевизионной цветопередачи NTSC - от National Television System Committee, т.е. национальный комитет по телевизионным системам, зрители расшифровывали абсолютно по-своему - Never the same colour, т.е. «никогда один и тот же цвет», NTSC называли также «пестрым телевидением». И, наконец, сегодня, когда техническое «совершенство» передачи изображения дошло до того, что цифровая «картинка», по уверениям производителей, уже «превосходит» возможности человеческого зрения, раскрывается оборотная сторона медиумной ипостаси. Оказывается, что медиум, развивая технические средства якобы во благо человека, исподволь, по-шарлатански, оставлял в укромных уголках своей технической империи средства манипулятивного воздействия на своего визави (например, телесуфлеры, превращающие дикторов в цицеронов, зеленый фон в цифровых студиях, дающий возможность «заводить» за спину диктора любую, самую фантастическую картинку и т.д.). Все это стало известно широкой публике, и, казалось бы, прочный и незыблемый миф о тождестве бытия и документа перестал завораживать сознание миллионов.
Сегодня медиадокументалистика лихорадочно ищет новые горизонты мистификации, новые мифы, способные наполнить ее содержанием. Сложность состоит в том, что многочисленные гаджеты начинают конкурировать между собой за сознание потребителя на все более сужающемся поле достоверности. Неясная тень искусственного интеллекта, встающая на фоне информационной пустыни, призвана хотя бы отчасти смягчить потерю посреднической пра-сущности медиареальности. Идет судорожный поиск человека, нового человека, нового субъекта в новой онтологии - партнера усовершенствованного информационного взаимодействия, впрочем, равно как и поиск нового формата такого взаимодействия. Миф, который требуется медиадокументалистике, должен сделать, кажется, невозможное - вновь объединить миллиарды пользователей в их иллюзорном взаимодействии с информационными «помощниками» в процессе собственного смыслового наполнения. Контуры этого мифа проявляются в интернет-пространстве, основываясь на лозунгах о тождестве мультимедийных презентаций и онтологической истины. С нашей точки зрения, здесь таится определенная надежда, и не все так апокалиптично, как казалось совсем недавно. Пусть медимуы (документы) конкурируют друг с другом за право быть более достоверными, а человек посмотрит на это со стороны, прячась за вычурными «аватарками», «никами» (по-старому - псевдонимами и масками), да и просто не принимая активного участия в информационном процессе. Конечно, здесь нельзя не заметить вполне определенные риски для самого человека, новые онтологические трудности и опасности. Однако будем оптимистами: их наличие - залог развития, а не стагнации.
Список литературы
1. Schwind Hans-Dieter / Jürgen Baumann / Ursula Shneider / Manfred Winter (Hrsg.) Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt. Analösen und Vorschläge der Unabhängigen Regierungskomission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkomission). Bd.II: Endgutachten und Zwischengutachten der Arbeitsgruppen. Berlin, 1990.
2. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Шпета Г.Г. Комментарий Ю.Р. Селиванова. М.: Академический Проект, 2008. 767 с.
3. Галкин С.И. Образ искусства или искусственный образ? // Журналистика в 2011 году: Ценности современного общества и средства массовой информации. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. 524 с.
DEONTOLOGISING ROLE OF THE DOCUMENT IN THE MEDIA REALITY
A.N. Fortunatov
The article examines the changing role of the document in the media reality. Instead of stating the truth, the document creates an illusion of authenticity.
Keywords: document, journalism, medium, television, visual image, reliability, truth.





 CC BY
CC BY 56
56