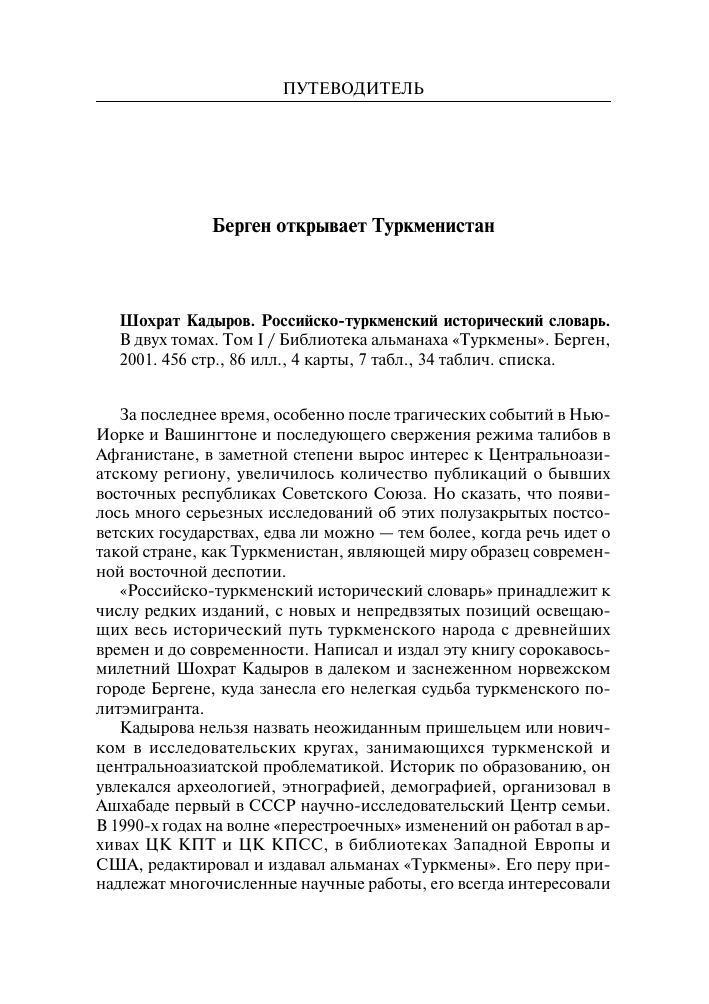ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Берген открывает Туркменистан
Шохрат Кадыров. Российско-туркменский исторический словарь.
В двух томах. Том I / Библиотека альманаха «Туркмены». Берген,
2001. 456 стр., 86 илл., 4 карты, 7 табл., 34 таблич. шиска.
За последнее время, особенно после трагических событий в Нью-Иорке и Вашингтоне и последующего свержения режима талибов в Афганистане, в заметной степени вырос интерес к Центральноазиатскому региону, увеличилось количество публикаций о бывших восточных республиках Советского Союза. Но сказать, что появилось много серьезных исследований об этих полузакрытых постсоветских государствах, едва ли можно — тем более, когда речь идет о такой стране, как Туркменистан, являющей миру образец современной восточной деспотии.
«Российско-туркменский исторический словарь» принадлежит к числу редких изданий, с новых и непредвзятых позиций освещающих весь исторический путь туркменского народа с древнейших времен и до современности. Написал и издал эту книгу сорокавосьмилетний Шохрат Кадыров в далеком и заснеженном норвежском городе Бергене, куда занесла его нелегкая судьба туркменского политэмигранта.
Кадырова нельзя назвать неожиданным пришельцем или новичком в исследовательских кругах, занимающихся туркменской и центральноазиатской проблематикой. Историк по образованию, он увлекался археологией, этнографией, демографией, организовал в Ашхабаде первый в СССР научно-исследовательский Центр семьи. В 1990-х годах на волне «перестроечных» изменений он работал в архивах ЦК КПТ и ЦК КПСС, в библиотеках Западной Европы и США, редактировал и издавал альманах «Туркмены». Его перу принадлежат многочисленные научные работы, его всегда интересовали
наиболее спорные проблемы возникновения и развития туркменского общества и государственности. Он был участником международных научных конференций в Англии, Германии, Франции, России, США, Норвегии, избран членом Европейской ассоциации демографических исследований. Разбираемая здесь книга Кадырова вбирает весь опыт его многолетней исследовательской деятельности, а также результаты его кропотливой работы в эмиграции.
Сам автор не скрывает, что, готовя «Словарь», ориентировался на зарубежные аналоги: на специализированные словари по истории стран Азии и Востока американской корпорации The Scarecrow Press и на энциклопедические словари, изданные в СССР и в новых независимых государствах в постсоветское время. Что касается использованного в «Словаре» материала, то Кадыров привлек громадное количество всевозможных работ русских, туркменских и западных авторов по центральноазиатской и отчасти советской и российской тематике, периодические издания, разнообразные документы государственных архивов, данные опросов, дневниковые записи, личные архивы и аудиозаписи лиц, принимавших активное участие в общественно-политической и культурной жизни Туркменистана.
Впечатляет, однако, не столько обилие собранных фактов, сколько способ их подачи, явно выводящий «Словарь» Кадырова за рамки классического жанра энциклопедического словаря и придающий его труду, как будет показано ниже, характер настоящего научного исследования. Стремление реорганизовать традиционную словарную форму, придать ей аналитический аспект, а также политическую актуальность и публицистичность, подтверждает и сам автор книги, когда в «Предисловии» указывает, что «из компилятивно-справочного издания “Словарь” приобрел структуру, близкую к самостоятельному исследованию» (с. 10). В «Словаре», по мнению Кадырова, сделан «первый шаг к переосмыслению истории туркменской нации в контексте сближения с Россией и отдаления от нее», показаны «малоизученные и неизвестные стороны туркменской и российско-туркменской истории» (с. 8).
Все рубрики, статьи и разделы книги снабжены богатейшим справочно-библиографическим материалом. Благодаря этому, перед всяким, кто занимается или просто интересуется Туркменистаном и Центральной Азией, открываются широкие возможности для научных и фактологических разысканий. Значение книги Кадырова
еще больше возрастает, если учесть, что последний энциклопедический словарь Туркменской ССР был издан 20 лет тому назад.
За вычетом «Предисловия», книга содержит пять разделов. Это «Летопись» (с. 13—66), «Введение» (с. 67—77), собственно «Словарь» (с. 79—320), которому предпосланы списки аббревиатур (с. 79—86) и транслитераций (с. 87—88), состоящий из девяти частей «Эпилог» (с. 321—364) и приложение «Документы и воспоминания» (с. 365—455).
«Летопись» представляет собой синхронистическую таблицу туркменской истории. Начинается она с Х—Х1 веков, с захвата Буи-дами Багдада и переселения туркмен-огузов с первоначальной территории их расселения в Иран, Афганистан, на Кавказ, Средний Восток и т. д., а заканчивается октябрем 2001 года, когда развернулись военные действия против талибов в Афганистане. Естественно, в «Летописи» широко представлены российская и советская эпохи, в течение которых могучий сосед прямо или косвенно влиял на становление и развитие туркменского общества.
Во «Введении» помещены общие сведения географического, этнографического, демографического, экономического характера о Туркменистане. Здесь же, в соответствии с авансированной моделью информационной аналитики, автор ставит и в меру своих возможностей решает такие важные, малоизученные и дискуссионные проблемы, как численность населения (в связи с этим сюжетом публикуется фотокопия фрагмента секретного документа из правительственной переписки С. А. Ниязова и В. Г. Отчерцова о необходимости завысить численность населения Туркменистана на 1993 год), размеры орошаемых земель, исламизация туркмен, их отношение к трайбализму и др.
Самый крупный раздел книги, «Словарь», включает более 500 статей и несколько тысяч мелких пояснений. Собраны в нем, прежде всего, краткие биографии знаковых личностей с эпохи средневековья до наших дней. Особенно богато представлен дореволюционный период, в том числе русская колониальная политика в лицах. Расписаны и туркменская традиционная элита, статусная интеллигенция, писатели, деятели культуры, науки, образования и, конечно, политики, в том числе бывшие и нынешние партийные и государственные функционеры, номенклатура, оппозиция и эмигрантские круги. В одном ряду с традиционными биграфическими сведениями (полное имя, время и место рождения, образование, карьера и т. п.) автор скупо и без оценочного нажима помещает характеристики,
раскрывающие роль и значение того или иного деятеля в историческом развитии нации и государства.
Та же аналитика «роли и значения» отчетливо бросается в глаза в заметках о важных событиях в туркменской истории, организациях, движениях. «Словарь» таким образом охватывает самые различные стороны прошлой и нынешней жизни. Включены, например, статьи о ковровом производстве в республике (им, как известно, славится Туркменистан) — и о самосожжении женщин, совсем не редком явлении и в наше время. Найдутся в нем и сведения о мактабах и медресе, то есть о мусульманских учебных заведениях, в том числе и такие: сколько их было в разное время, какая в них была программа, какова их судьба в настоящее время. По странам перечислены все зарубежные фирмы, которые функционируют в Туркменистане.
Раздел «Эпилог», несмотря на то, что занимает всего 44 страницы, является очень важной и насыщенной частью кииги. Он содержит аналитические выкладки и обобщения автора, тематически суммирует наиболее значимые факты и тенденции в истории туркменского народа, служит проблемным интегратором предшествующих ему разделов. Вот, например, как сам автор уже в «Предисловии» расставляет приоритеты, организующие проблемно-тематическую совокупность «Эпилога»: евротуркмены, элитные браки, этнодемографическая стратификация, позднесоветская «абориге-низация» власти, внутриполитическая конкуренция землячеств, взаимоотношения элит, влияние клановой структуры на идеологию государства, дуумвират секретарей ЦК КПТ и роль Москвы в управлении республикой (с. 11).
На мой взгляд, серьезной заслугой автора является аргументированное освещение — с последующими обобщениями — родоплеменных и кланово-земляческих отношений как значимого фактора и в истории туркменского народа, и в становлении нынешних, весьма своеобразных форм политической и государственной жизни в Туркменистане. Именно от этих отношений, по мнению Кадырова, протягиваются нити в наши дни, их влиянием он объясняет утвердившиеся в современном Туркменистане полуфеодальную, автохтонную военно-политическую деспотию и этнический национализм. Точно так же, в единой исторической ретроспективе, как звенья одной цепи, рассматриваются им особенности национальной политики Кремля в Туркмении, процессы русификации туркмен и формирования ныне командной евротуркменской субпопуляции.
Роль России в историческом развитии Туркменистана Кадыров определяет весьма осторожно, отказываясь от прямолинейного, черно-белого ее толкования. Между тем именно упрощенная трактовка (в ту или иную сторону) преобладает в современных работах о Центральной Азии и в качестве устойчивой идеологической амбивалентности бытует в общественном сознании как российского общества, так и туркменского. И хотя Кадыров, очевидно, не ставил перед собой задачу всесторонне рассмотреть этот вопрос, из самого контекста его работы становится ясно, насколько сложным был процесс русского влияния и господства, позитивные и негативные последствия которого в причудливом сочетании дают о себе знать и теперь.
Последовательно проанализировав родо-племенные и клановоземляческие отношения, равно как и влияние русско-европейских культурных стереотипов и форм государственного управления, автор приходит к выводу, что «субэтническая сплоченность, неразделимая с режимом деспотии», и в дальнейшем будет определять ситуацию в Туркменистане. Он пишет: «С. А. Ниязов свою историческую миссию выполнил. Многократное превосходсто жителей Ахалтекинского региона над остальными туркменами — неоспоримый факт. Избалованные полученными привилегиями столичные кланы и после ухода Туркменбаши в ущерб себе властью в столице ни с кем не поделятся. Ахал-текинский султанат и прилегающие к нему вилояты (тайная мечта ханов Нурберды и Махтамкули, коммунистов Х. Сахатмурадова, Ч. Веллекова, Ш. Батырова) для С. А. Туркменбаши — уже не цель и даже не ступенька к узурпации власти. Это гражданская основа туркменского монократического государства» (с. 359). Отсюда следует бескомпромиссный и довольно пессимистический прогноз о бесперспективности «демократизации постсоветской Центральной Азии вне ее федерализации. Но это уже другая сказка».
Этим смелым, отчасти даже ошеломляющим выводом и заканчивает первый том своего словаря туркменский политэмигрант из Бергена. Спорить с ним, конечно, можно. Не все его подходы и выводы строго и ровно защищены. Но отдать должное его логике, широте исследовательской мысли, свободной от старых и новых концептуальных шаблонов, следует без всяких оговорок. Мне, например, спорить с ним не хочется, — как, вероятно, не захочется многим из тех, кто сам долго варился в центральноазиатском котле и хорошо знает восточные «сказки».
В последнем разделе книги читатель может познакомиться с интереснейшими документами: с неопубликованными до сих пор воспоминаниями о роли туркменского Махтамкули-хана в годы революции и его отношении к большевикам; с фрагментами из стенограммы III съезда КП(б)Т (1927), осуждающими ошибочные, по мнению руководства партии, политические взгляды председателя СНК ТССР Кайгысыза Атабаева; со стенограммой прений на объединенном заседании Исполбюро ЦК и президиума ЦКК КП(б)Т (1929), на котором обсуждался вопрос о нескладывающихся взаимоотношениях между туркменами и «европейцами» — партийными и советскими работниками; с «Докладной запиской Комиссии ЦК КПСС по результатом проверки положения дел в Бюро ЦК компартии Туркменистана 24 декабря 1958», повлекшей за собой снятие с работы первого секретаря ЦК Бабаева и секретаря по идеологии Дурдыевой и др. Всего 10 документов. Они впервые вводятся в научный оборот, и уже в этом их значение, хотя не совсем понятно, по какому принципу они подобраны. Скорей всего, это наиболее интересные из тех документов, что автору удалось извлечь из архивов, в которых он работал. Но они нуждаются в более серьезных комментариях.
Нельзя сказать, что «Словарь» составлен безукоризненно. Есть мелкие недочеты, например, почему-то не указано количество населения в г. Чарджоу. Трудно понять, какое отношение к российско-туркменской истории имеет словарная статья об английском ориенталисте Генри Роулинсоне или почему в «Словарь» включен Батый, а в «Летописи» щедро помещены сведения о политической жизни кавказских республик, тогда как о соседних центральноазиатских республиках, имеющих прямое отношение к развитию политических процессов в Туркменистане, сказано скупо. Совсем не рубрику-ются саммиты лидеров и руководителей центральноазиатских стран с участием туркменской стороны, не нашли своего отражения пограничные, этнические, энергетические конфликты и трения с Узбекистаном, нет никаких данных хотя бы о минимальных торговых, экономических и прочих связях Туркменистана с Узбекистаном и Казахстаном.
В заключение — несколько серьезных пожеланий. Необходимо использовать важные документы из архивов Узбекистана, относящиеся ко времени, когда управление Туркменистаном осуществлялось из Самарканда и Ташкента: сначало российским генерал-губернатором, а после установления советской власти в Центральной
Азиии — Средазбюро ЦК РКП(б) и Туркестанским правительством. Это значительно обогатило бы представление о жизни туркменского общества в тот и последующий периоды.
Вообще следует заметить, что выстроить более или менее полную модель политического развития Туркменистана без учета социокультурного влияния соседних центральноазиатских стран, а также Ирана, Турции и Афганистана представляется весьма проблематичным. В первом же томе «Словаря», как уже отмечалось, материалов, позволяющих проследить это влияние, очень мало. Правда, некорректно обвинять в этом автора. Книга была задумана как «Русско-туркменский исторический словарь», и если при ее оценке исходить строго из этого названия, то задача выполнена блестяще. К тому же, согласно рекламному анонсу, во втором томе «Словаря», над которым сейчас работает Кадыров, больше внимания будет уделено статьям аналитического и предметно-тематического содержания и документам. Очевидно, будут дополнены и разделы «Летописи», рассмотрены те проблемы историографии Туркменистана, которые в первом томе отсутствовали, так что в историческом календаре образовались пустоты в десятки лет, приходящиеся не только на средневековую истории, но и на новейшую. Эта работа уже ведется автором, значит, мои замечания и пожелания заочно учтены.
Каковы бы ни были критические претензии к «Словарю», у меня нет сомнения в том, что без этой книги не смогут теперь обойтись ученые, занимающиеся Туркменистаном и, шире, Центральной Азией, как и в том, что она станет незаменимым справочником для политиков, бизнесменов, дипломатов, и даже для туристов. Последних, правда, пока очень мало... Но времена меняются, и книга туркменского диссидента, исследователя и публициста из приютившего его Бергена, несомненно, будет способствовать этим изменениям. Она доказывает, что туркменский народ обладает достаточным потенциалом для утверждения в своей стране совсем другой, чем сейчас, жизни, и иных, чем ныне приняты, идеалов.
Лерман Усманов
Лерман Дехканович Усманов, публицист, лектор по русской литературе, г. Йён-чёпинг, Швеция.





 CC BY
CC BY 146
146