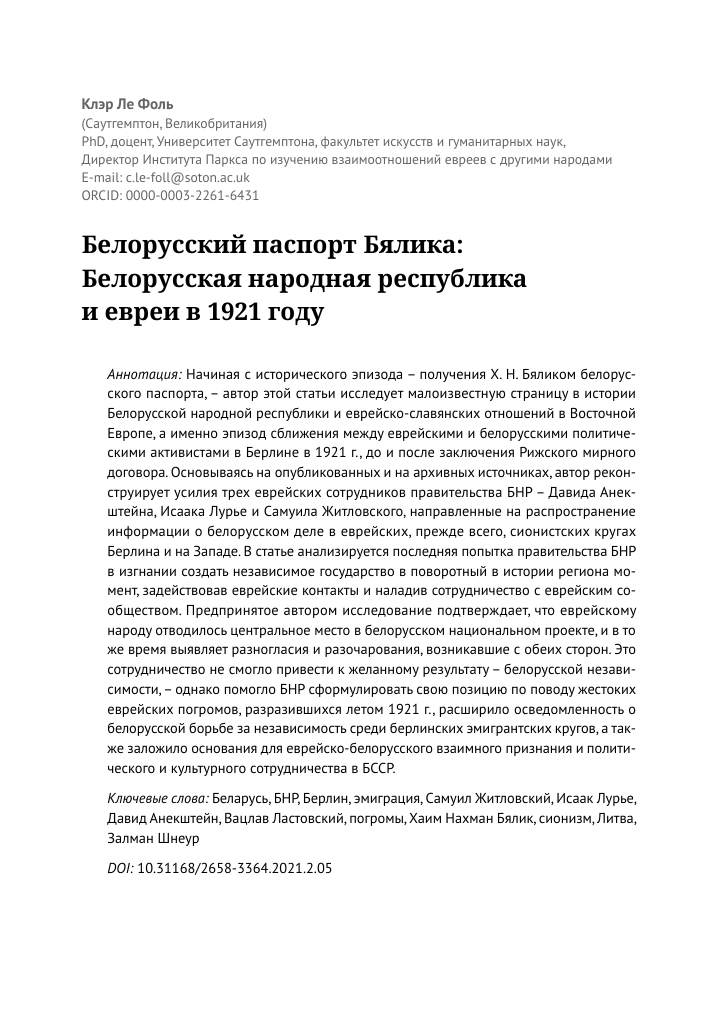Клэр Ле Фоль
(Саутгемптон, Великобритания)
PhD, доцент, Университет Саутгемптона, факультет искусств и гуманитарных наук, Директор Института Паркса по изучению взаимоотношений евреев с другими народами E-mail: c.le-foll@soton.ac.uk ORCID: 0000-0003-2261-6431
Белорусский паспорт Бялика: Белорусская народная республика и евреи в 1921 году
Аннотация: Начиная с исторического эпизода - получения Х. Н. Бяликом белорусского паспорта, - автор этой статьи исследует малоизвестную страницу в истории Белорусской народной республики и еврейско-славянских отношений в Восточной Европе, а именно эпизод сближения между еврейскими и белорусскими политическими активистами в Берлине в 1921 г., до и после заключения Рижского мирного договора. Основываясь на опубликованных и на архивных источниках, автор реконструирует усилия трех еврейских сотрудников правительства БНР - Давида Анек-штейна, Исаака Лурье и Самуила Житловского, направленные на распространение информации о белорусском деле в еврейских, прежде всего, сионистских кругах Берлина и на Западе. В статье анализируется последняя попытка правительства БНР в изгнании создать независимое государство в поворотный в истории региона момент, задействовав еврейские контакты и наладив сотрудничество с еврейским сообществом. Предпринятое автором исследование подтверждает, что еврейскому народу отводилось центральное место в белорусском национальном проекте, и в то же время выявляет разногласия и разочарования, возникавшие с обеих сторон. Это сотрудничество не смогло привести к желанному результату - белорусской независимости, - однако помогло БНР сформулировать свою позицию по поводу жестоких еврейских погромов, разразившихся летом 1921 г., расширило осведомленность о белорусской борьбе за независимость среди берлинских эмигрантских кругов, а также заложило основания для еврейско-белорусского взаимного признания и политического и культурного сотрудничества в БССР.
Ключевые слова: Беларусь, БНР, Берлин, эмиграция, Самуил Житловский, Исаак Лурье, Давид Анекштейн, Вацлав Ластовский, погромы, Хаим Нахман Бялик, сионизм, Литва, Залман Шнеур
DOI: 10.31168/2658-3364.2021.2.05
Хорошо известно, что еврейский национальный поэт Хаим Нахман Бя-лик уехал из Советской России летом 1921 г. вместе с несколькими другими еврейскими писателями и их семьями благодаря помощи своего друга Максима Горького. Покинув Одессу, Бялик приплыл в Константинополь, откуда направился в Карлсбад в Чехословакии, чтобы в сентябре 1921 г. присутствовать на Двенадцатом сионистском конгрессе [Бялик 1955, письмо Равницкому от 25.08.1921; Aberbach 1988]. Однако менее известно то, что для путешествия по Центральной Европе Бялик обзавелся белорусским паспортом. 15 июля 1921 г. паспорт сроком действия до 15 января 1922 г. был бесплатно выдан Бялику и его жене Мане (в паспорте - Меня) консульством Белорусской народной республики (БНР) в Константинополе и заверен генеральным консулом полковником Ер-маченко [НАРБ, Ф. 827, Оп. 2, Д. 19, Л. 1-6, (илл. 1, 2 и 3)]. Белорусское консульство в Константинополе лишь недавно открылось, но, согласно отчету, отправленному Ермаченко председателю правительства БНР Ла-стовскому 14 июня 1921 г., уже успело выдать двадцать паспортов белорусским гражданам, отчаянно желавшим вернуться домой, причем настолько обедневшим, что Ермаченко неудобно было взимать с них пошлину за паспорт [Архшы БНР 2790, 1123]. В паспорте была указана официальная, но не соответствующая действительности цель поездки Бялика в Европу - «вернуться домой» в Гродно (илл. 4). В паспорте стояла также белорусская виза с указанием, что Бялик с женой направляются в «Ruthenie Blanche via Lom-Budapest» (илл. 5). Чтобы превратиться в белорусского гражданина, Бялик изменил в документах место своего рождения, указав в качестве такового город Слоним в Гродненской области вместо украинского города Рады, где он на самом деле родился (илл. 6). Константинопольский эмиграционный офис Американского еврейского распределительного комитета «Джойнт» выдал Бялику новое свидетельство о рождении, датированное 15 июля 1921 г. [НАРБ, Ф. 827, Оп. 3, Д. 34, Л. 2]1.
Нет сомнений в том, что этот паспорт действительно принадлежал Хаиму Нахману Бялику, которого легко узнать на вклеенной туда фотографии (илл. 3) и который правдиво указал Одессу как место проживания. Выбор в качестве фиктивного места рождения Слонима (а не Минска, как Бялик написал в анкете) объясняется геополитическим контекстом того времени: Слоним тогда находился в Западной Белоруссии, которая как раз вошла в состав Второй Польской Республики по итогам Рижского мирного договора между РСФСР, УССР и Польшей, в то время как Минск был столицей Советской Белоруссии, куда Бялик не хотел возвращаться. В паспорте проставлены греческая, болгарская, венгерская и чешская
1 Дата рождения по непонятной причине тоже была указана неверно: 25 мая 1873 г. вместо 9 января 1873 г.
Илл. 1. Паспорт Бялика, обложка и первая страница (НАРБ. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л. 1)
Илл. 2. Паспорт Бялика, страница 5 (НАРБ. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л. 3)
Илл. 3. Паспорт Бялика, страница 6 с фотографиями и подписями Бялика и Мени (НАРБ. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л. 3 об.)
Илл. 4. Паспорт Бялика, страница 4 (НАРБ. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л. 2 об.)
Илл. 5. Паспорт Бялика, страница 7 (НАРБ. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л. 4)
Илл. 6. Паспорт Бялика, страница 2 (НАРБ. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л. 1 об.)
транзитные визы, что соответствует маршруту Бялика: из Константинополя в Карлсбад2. Сам по себе этот паспорт представляется курьезной деталью из жизни поэта, не более того. Однако, помимо прочего, этот документ является свидетельством важного времени - периода интенсивного политического перекраивания карты послевоенной Центральной и Восточной Европы, имеющего критическое значение для «малых народов» и меньшинств, которые добивались признания собственного существования и национальных прав.
Первый вопрос, на который я постараюсь ответить в этой статье, -почему консульство БНР согласилось выдать паспорт Бялику, который не был белорусом и не имел никакой видимой связи с Белоруссией. И наоборот: почему Бялик и его друзья решили обратиться за помощью именно в консульство БНР - нового и непонятного государства? Этот интригующий факт не только подтверждает великодушие БНР в отношении выдачи паспортов в это время, в частности, евреям [НАРБ, Ф. 864, Оп. 1, Д. 1; Чернякевич 2018, 224] и озабоченность республики национальными символами государственности ^^И^ 2014, 86-87], но и обнаруживает ряд закулисных контактов и переговоров, указывающих на личные связи между белорусскими и еврейскими политическими деятелями на местном и международном уровне в переломном 1921 г.
Тот факт, что БНР помогла самому известному еврейскому писателю того времени, - не случайное совпадение: он свидетельствует о политической значимости развивавшегося в этот период еврейско-белорусского взаимного сотрудничества. Разумеется, нельзя исключить возможности того, что Ермаченко не знал, кто такой Бялик, однако обстоятельства, стоящие за этим, на первый взгляд, незначительным фактом, дополняют наши знания о деятельности и политической стратегии БНР в этот поворотный момент. Этот факт позволяет пересмотреть распространенный взгляд на БНР как на ничтожное и нелегитимное государство, одержимое символами власти, но «на практике не имеющее почти никакого значения» ^^И^ 2014, 87; Savchenko 2009, 72-73]. Он также подвергает сомнению представление о том, что белорусский национализм был прежде всего орудием, которое успешно использовали немцы, большевики, поляки и литовцы, с тем чтобы укрепить свои стратегические позиции в регионе, начиная с 1914 г. и до 1920-х годов ^МИ^ 2014; Vakar 1956,
2 Трудно сказать, действительно ли Бялик использовал этот паспорт в своем путешествии, ведь 23 августа, когда срок действия белорусской визы уже истек, он по-прежнему оставался в Константинополе. В письме Равницкому он много жалуется на проблемы с визой и финансовые затруднения, но выражает надежду на то, что ситуация вскоре разрешится. Учитывая, что Бялик заплатил за все проставленные в паспорт визы, а как раз белорусская виза была ему не нужна, поскольку он на самом деле не собирался ехать в Гродно, вероятно, он действительно использовал этот документ.
105]. Кроме того, этот эпизод ставит под сомнение общепринятый взгляд на Беларусь как на пограничье, чьи история и будущее определялись в первую очередь отношениями с могущественными соседями - Польшей и Россией [Vakar 1956, 51-64; Savchenko 2009; Sahanovic 2011]. Эта стаг тья показывает, что даже после своего изгнания или, точнее, именно в период изгнания, в 1920-1921 гг., правительство Белорусской народной республики всячески развивало свои политические связи, стремилось получить международное признание и отстоять идею белорусской государственности с помощью еврейского сообщества. Условия этого «прагматичного альянса» были взаимными, и ряд еврейских интеллектуалов и общественных деятелей приветствовали союз с БНР в контексте жестоких погромов на белорусских территориях.
Наконец, белорусский паспорт Бялика добавляет еще один уровень к - уже и без того многослойной - истории эмигрантского Берлина, в которой, однако, белорусов практически нет3. Паспорт видится символической кульминацией активного сотрудничества между еврейскими и белорусскими эмигрантами в Берлине и подкрепляет мнение Олафа Терпица о том, что эмигрантскую среду в Берлине не следует изучать, разделяя на группы по признаку происхождения [Terpitz 2012, 179-199]. Эмигранты из разных стран - России, Прибалтики, Украины, Скандинавии, - в том числе идишеязычные и ивритоязычные евреи, составляли единое многослойное сообщество, встречаясь и взаимодействуя больше, чем изначально думали исследователи; в этом сообществе был и небольшой «белорусский Берлин», который историография, сосредоточенная на эмигрантской культуре, долго не замечала [Schlögel 1999; Будниц-кий, Полян 2013, 17]. Стратегия, выдвинутая еврейскими активистами из БНР, состояла как раз в том, чтобы завязывать контакты с другими эмигрантскими группами, прежде всего, евреями-сионистами, русскими и скандинавами. Представленные в работе материалы расширяют наши представления о сотрудничестве между евреями и представителями зарождающихся восточноевропейских национальных государств в городе, служившем для них убежищем, и в атмосфере надежд, сложившейся после Первой мировой войны и русских революций.
Соответственно цель этой статьи в том, чтобы найти связующее звено между Бяликом и БНР. Я покажу, что деятельность чрезвычайной миссии БНР в Берлине в 1921 г. была тесно связана с группой еврейских интеллектуалов и отчасти даже направлялась ими - преимущественно сионистами, которые поддерживали белорусов в борьбе за собственное
3 Миссия БНР в Берлине не упоминается [Schlögel 1999], а о какой-либо деятельности белорусов в Берлине речь в историографии идет крайне редко [Schlögel 1999, 76] или не идет вообще [Будницкий, Полян 2013; Reinharz 1981; Maurer 1986; Adler-Rudel 1959].
государство, надеясь добиться в нем еврейской национальной автономии, в то время как белорусское правительство в изгнании заигрывало с еврейской публикой в рамках политики сближения с народами, прежде угнетаемыми царской Россией или Польшей. Я докажу, что белорусский паспорт Бялика может служить символом этого периода интенсивного сближения между БНР и евреями, в результате которого некоторые сионисты незамедлительно (хотя и не особо углубляясь в тему) признали существование белорусского национального движения. Эта встреча стала возможной благодаря объединенным усилиям белорусских и еврейских активистов, заинтересованных в возникновении демократической многоэтничной Беларуси в ситуации послевоенных разделов Украины и Беларуси между Польшей и Советской Россией. Добиться создания долговечного независимого белорусского государства им не удалось, и тем не менее эта история рассказывает об опыте совместной деятельности небольшой группы людей разного происхождения и разных интересов и проливает свет на застарелые проблемы, разочарования и нереализованные планы еврейско-белорусской дружбы.
Трудный путь к белорусской государственности
Как подсчитал Пер Андерс Рудлинг, с 1918 г. по 1921 г. белорусы шесть раз провозглашали свою независимость. В этот период белорусское национальное движение, страдающее от политических разногласий и стратегических расколов, следовало разными путями и за разными лидерами, и прежде чем обсуждать деятельность БНР в Берлине, важно понять, как политические и геополитические вопросы решались белорусскими националистами в 1921 г.
Белорусское национальное движение, как правило, считается слабее других национализмов в Восточной Европе, поскольку возникло оно позднее и состояло из малочисленных групп интеллектуалов, оторванных от народа. Тем не менее ему удалось заявить о создании белорусского государства в марте 1918 г., объединив разнородные элементы в борьбе за независимость и против большевиков. Создание БНР в марте 1918 г. и провозглашение ею независимости 25 марта стало возможным благодаря сочетанию ряда различных факторов - как долгосрочных, так и появившихся совсем недавно: возникновение белорусской национальной идеи во второй половине XIX в. (на пике развития эту идею лучше всего выражали публикации в белорусскоязычном журнале «Наша нива» в 1906-1915 гг.), поддержка белорусского национального движения, оказываемая Германией в годы войны, русские революции, понятые национальными интеллигенциями как карт-бланш на социальное и национальное освобождение «угнетенных народов», и, наконец, Брестский
мир, который привел к уходу большевиков из Минска и создал там политический вакуум, благоприятный для провозглашения национальной независимости [Уакаг 1956; Чернякевич 2018; Rudling 2014]. Но просущеа ствовала БНР недолго. Вскоре после поражения немцев в ноябре 1918 г. большевики разогнали правительство БНР, а территория, которую белорусские националисты считали своим государством, была поделена между Польшей и большевистской Россией. Кое-кто из белорусских националистов поддержал создание в январе 1919 г. Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ), которая через короткое время после завоевания большевиками Вильно (Вильнюса) была превращена в объединенную Литовско-Белорусскую ССР (ЛитБелССР). БНР продолжила свое существование в изгнании, некоторые ее лидеры отправились в Вильно (как, например, Антон Луцкевич), другие нашли убежище в Гродно (как Вацлав Ластовский). Вскоре у БНР было уже два правительства: Верховная Рада, возглавляемая Луцкевичем, и более радикальная Народная Рада во главе с Ластовским. Большевистское контрнаступление в июле 1920 г. вынудило белорусские правительства бежать вновь: Луцкевич бежал в Варшаву, Ластовский - в Ригу. Поляки в ходе своего контрнаступления успешно отвоевали большую часть Западной Белоруссии и Западной Украины, и по Рижскому мирному договору в марте 1921 г. белорусская территория была разделена между Советами и Польшей.
В течение этого бурного периода 1918-1921 гг. судьба Беларуси все более зависела от «политических процессов в Москве, Берлине, Варшаве, Каунасе, Версале и Риге» [Rudling 2014, 66]. Сразу после провозглашеп ния независимости 25 марта 1918 г. послы были отправлены в США и столицы европейских государств, в том числе в Париж, Берлин, Берн, Варшаву и Киев, но без особого успеха. Рада также поспешила открыть консульства или миссии в соседних странах - в Киеве, Одессе, Москве, Ставрополе и Вильнюсе [Уакаг 1956, 103; Rudling 2014, 87]. После бегства правительства БНР из Минска в ноябре 1918 г. изгнанные политики разошлись во мнениях о дальнейшей стратегии. Ластовский и правительство БНР в Гродно попытались объединиться с Литвой с целью создать общее федеративное государство [Rudling 2014, 94]. Литовское правит тельство подписало договор с БНР в декабре 1918 г. и пошло навстречу пожеланиям белорусов, включив белорусских представителей в Тарибу (Совет Литвы, парламент) и учредив Министерство по делам Беларуси. Луцкевич же, напротив, искал союза с Польшей, пытаясь осуществить свой заявленный еще в 1915 г. проект возрождения Великого княжества Литовского в виде конфедерации белорусского, литовского, польского и еврейского народов, но не добился заметных результатов ^акаг 1956, 94-95]. Он также возглавлял белорусскую делегацию на Парижской мирной конференции с намерением требовать международного признания
БНР, но его почти не слушали [Rudling 2014, 103-104]. Его планы всеобщеi го примирения распространялись также на Советскую Россию.
Рижский мирный договор обострил разногласия между членами белорусского национального движения. Часть из них поддержала большевиков и осталась в БССР, представлявшейся первым стабильным государственным образованием на белорусской территории, но многие сохраняли верность БНР и продолжали бороться за независимую Беларусь в союзе с Литвой или за права национального меньшинства в составе Польши. Историки по-разному описывают восприятие Рижского договора белорусскими националистами. По словам Вакара, для них «это был подарок свыше: при соперничестве по обе стороны границы их дело могло только выиграть!» [Vakar 1956, 118]. Однако Снайдер считает, что «белорусские активисты рассматривали Рижский договор как измену и трагедию. Последуют и другие удары, но уже после Риги им трудно было видеть в Варшаве союзника белорусских национальных устремлений. <...> Если исключить Минск, оставшаяся белорусская интеллигенция была слишком малочисленна, чтобы служить союзником польскому государству» [Snyder 2003, 65]. Применительно к неспокойному периоду с октября 1920 г. по начало 1922 г., пожалуй, справедливо будет сказать, что настроение белорусских активистов резко менялось - они бросались из одной крайности в другую. С точки зрения Народной Рады, тогда находившейся в Риге и, в особенности, Ластовского, решение белорусского национального вопроса бесполезно было искать в Советской Белоруссии или в Польше, но шансы сохранить белорусскую государственность были невелики, особенно после того, как белорусов исключили из предварительных обсуждений условий мирного договора в октябре 1920 г. [Пурышева 2009, 158; Чернякевич 2018, 213]. Ластовский предвидел рой спуск правительства БНР и сам планировал вернуться в БССР [Чернякевич 2018, 214]. Ситуация изменилась после того, как польский генерал Желиговский взял Вильнюс в октябре 1920 г. и образовалась республика Срединная Литва, где должен был пройти всенародный референдум, и в ноябре 1920 г. Рада Ластовского с литовским правительством подписали секретное соглашение. Они обещали друг другу взаимную поддержку: литовское правительство признало БНР и Раду во главе с Ластовским и обещало ему финансовую поддержку, а белорусы обещали поддержать литовцев в борьбе за освобождение Вильнюса от польской оккупации и в бойкоте референдума (литовское правительство было против референдума, поскольку процент собственно литовского населения в Вильнюсе и области был невелик) [Тихомиров 2006; Чернякевич 2018, 216-217]. Месяцы перед заключением Рижского мира и после него, вплоть до разрешения ситуации в Вильнюсе весной 1922 г., были также периодом напряженной политической и дипломатической деятельности БНР в изгнании, но и периодом продолжающейся внутренней борьбы в рядах
белорусских националистов и растущей неуверенности в поддержке литовцев [Чернякевич 2018, 219-222].
Именно в контексте этой повсеместной кампании за международное признание БНР нужно рассматривать чрезвычайную дипломатическую миссию в Берлине, официально зарегистрированную Антоном Луцке-вичем в мае 1919 г. [Сакалоуск 2009, 21]. Изначально миссия занималась преимущественно вопросом о 60 000 белорусских военнопленных, находящихся в германских лагерях, которых БНР хотела завербовать для создания национальной армии, но в 1920 г., а особенно в 1921 г. она расширила поле своей деятельности. В месяцы, предшествовавшие подписанию Рижского мирного договора, белорусы, поддерживавшие литовцев в их борьбе с поляками за статус Вильнюса, надеялись, что им предоставится возможность отстоять и свое дело. После подписания Рижского договора и до того, как вопрос с Вильнюсом был окончательно решен, они рассчитывали поддерживать какой-то международный интерес к белорусскому вопросу и воспользоваться плохими новостями о польских погромах и голоде в России, чтобы привлечь внимание мировой общественности к несправедливому обращению с Беларусью. Продолжая борьбу за международное признание и финансовые субсидии, правительство БНР, теперь уже заседающее в Каунасе, призывало своих представителей в Берлине расширять контакты с дипломатами из Франции, Германии, Великобритании и США. Со временем оно решило обратиться и к еврейской общине, которая, по мысли некоторых белорусских националистов, должна была сыграть важную роль в будущем независимой Беларуси.
Евреи - неохотные союзники белорусов
Это обращение к евреям отнюдь не было чем-то неслыханным и беспрецедентным. На самом деле белорусские националисты еще с 1900-х гг. настойчиво стремились к союзу с евреями ^е БоИ 2008]. Белорусская социалистическая партия с момента создания признавала за всеми меньшинствами право на национальную автономию, а в 19051906 гг. заняла непримиримую позицию в отношении антисемитизма и погромов [НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 26, Л. 1]. Немало свидетельств подобной проеврейской позиции можно найти в белорусском журнале «Наша нива», регулярно обличавшем деятельность черносотенцев в белорусских губерниях в 1906-1907 гг., погромы и обращение с евреями в ходе дела Бейлиса [Крапива 1906; Партии у Думе 1907; Зьезд так-названаго «Союза Русскаго Народа» 1907; А. У. Вильня 15 (28) серпня 1908]. Журнал также опровергал антисемитские стереотипы о евреях-богачах и евреях-эксплуататорах [Луцкевич 1907]. Сокрушаясь о недостаточной
представленности евреев в местном самоуправлении, редакторы «Нашей нивы» подчеркивали приверженность еврейских депутатов в Думе интересам крестьян и их высокие нравственные качества. Из материалов журнала следует, что белорусские националисты приветствовали евреев как политических соратников, превознося их интеллектуальные и моральные качества, более того - признавая их превосходство над белорусами в политической сфере. Антон Луцкевич пошел еще дальше, в 1913 г. опубликовав под своим псевдонимом «Новина» статью на идише «Вегн дер националер ойфлебунг фун ди белорусен» («О национальном возрождении белоруссов») в журнале «Ди идише велт» [Новина 1913]. Статья была призвана объяснить цели белорусского национального движения и рассказать о его успехах, убедить евреев в необходимости поддержать своих соседей. В своей статье Луцкевич признавал слабость белорусских лидеров и потребность в «союзниках среди народов, которые, как и белорусский народ, [при царизме] были лишены прав и подвергались угнетению». По мнению Луцкевича, таких возможных союзников было всего два: литовский народ и еврейский. Если с литовцами белорусы соседствовали только в Вильно, евреи жили по всей белорусской территории, находясь в близких и дружественных отношениях с белорусским крестьянством. Чтобы укрепить белорусско-еврейскую дружбу, Луцкевич просил евреев прояснить свою позицию по отношению к белорусскому национальному движению. Этот идеал белорусско-еврейской дружбы пронизывает и белорусскую литературу того времени, создаваемую в кругу «Нашей нивы», где персонажи-евреи изображены людьми гуманными, щедрыми, замечательными как в нравственном, так и в интеллектуальном отношении и гордящимися своим еврейством [Le Foil 2006, 459-466].
Несмотря на то, что евреи были солидарны с белорусами в стремлении к национальной автономии [Герасимова 2009, 71] и некоторые еврейские интеллектуалы начали проявлять интерес к белорусской культуре4, поддержка, оказываемая евреями белорусскому движению, оставалась крайне скромной. Белорусское разочарование еврейским «ассимиляционизмом» нарастало и нашло отражение, в частности, в стихотворении «Евреи», написанном белорусским национальным поэтом Янкой Купалой в 1919 г.:
Масква й Варшава аплюл1 вам 1мя
I у дзжай чэрш ненав1сць спладзш1 к вам,
А Беларусь пад крыллям1 сваш1
Вас грэла й вашым нянькаю была дзяцям.
4 К примеру, рассказ Змитрока Бядули и статья В. Ластовского были переведены на идиш и опубликованы в сборнике «Лита», изданном Клецкиным в 1914 г.
Пасля, жыды, вы зрэкл1ся народу, Як1 вам шчыра дау багацце 1 прыпын; Пайшл1 прыдбаць сабе чэсць 1 выгоду Да ильных тых, хто дау вам ысельню 1 чын!
[...] Цяпер за вам1 слова у буру гэту: Пайц1 щ не, з народам нашым да святла... Пара, жыды, паны усяго свету, Сплащщ доуг, як1 вам Беларусь дала!
Тем не менее белорусские националисты продолжали держать дверь открытой. В Исполнительный комитет Белорусской Рады в декабре
1917 г. вошли представители еврейских партий: сионистов-социалистов, сионистов и «Поалей Цион» ^е БоИ 2008, 67]. БНР признала за этническими меньшинствами право на национальную автономию и языковое равенство [Герасимова 2009, 71]. Первые «универсалы» (уставные акты) Рады были изданы на белорусском, польском и идише. После провозглашения независимости в марте 1918 г. в правительство БНР вошли представители еврейского меньшинства (М. Гутман, Г. Белкинд), а в Раде насчитывалось до десяти депутатов от еврейских партий ^е БоИ 2008, 8, п 16; Герасимова 2009, 71]. БНР гарантировала этническим меньшинь ствам представительство в органах власти, и в Раде евреям полагалось до семи мандатов. Гутман сыграл ключевую роль в составлении первого универсала, используя свой прошлый опыт - а он был депутатом Центральной рады Украинской Народной Республики [Герасимова 2009, 72]. Надо отметить, что Украинская Народная Республика, провозглашенная после Февральской революции, первая подготовила почву для сотрудничества с евреями, объявив идиш одним из государственных языков, создав Министерство по еврейским делам и признав еврейскую культурную автономию [Abramson 1999; Magosci 1996]. Однако в январе
1918 г., когда Украинская рада провозгласила независимость, эта идиллия закончилась и наступил период нарастающего напряжения и трений между украинцами и евреями, связанных прежде всего с волной жестоких погромов, разразившихся в 1919-1921 гг. Сходным образом еврейские представители покинули Белорусскую Раду в апреле 1918-го, после того как БНР решила отдалиться от России и сотрудничать с германскими властями. Белорусско-еврейская дружба подкреплялась публикациями представителей интеллектуальной элиты, в первую очередь белорусского писателя еврейского происхождения Змитрока Бядули. В своем этнографическом исследовании «Евреи в Беларуси» (1918) и нескольких статьях, вышедших в 1918-1919 гг., он выступал в защиту тесного белорусско-еврейского сотрудничества и призывал евреев участвовать в создании белорусского государства ^е Бо11 2008, 69]. Появившиеся в это
время в прессе статьи других белорусских авторов тоже свидетельствуют о постоянных усилиях побудить евреев к сближению5. Эти примеры демонстрируют готовность если не всех, то большинства белорусских националистов заключить прагматический союз с евреями и привлечь их к строительству белорусского государства, однако эти настроения не находили особого отклика у евреев. Паспорт Бялика и старания агентов БНР сблизиться с сионистами в Берлине стали кульминацией этих длительных попыток привлечь внимание евреев и получить их поддержку в решающей борьбе за международное признание БНР.
Белорусские евреи, работающие на БНР в изгнании
Сотрудничество между евреями и БНР возобновилось после того, как в конце 1920 г. несколько еврейских деятелей вошли в состав берлинской миссии. Руководство БНР было тогда очень обеспокоено тем фактом, что Запад получал информацию о республике исключительно из «враждебных источников». По словам главы берлинской миссии Леонида Баркова, было совершенно необходимо направить доверенных представителей в те места, где таковых еще не было, например, в Лондон [Arche 70, 137]. Как отмечает Инна Герасимова, правительству БНР «нужны были постоянные официальные и неофициальные отношения с различными международными общественными организациями и влиятельными частными лицами» [Герасимова 2009, 72]. Поскольку таких контактов под рукой не было, белорусские политики обратились за помощью к заметным общественным или культурным деятелям родом из Беларуси, прежде всего - к евреям. И для этой цели миссия БНР в Берлине и правительство БНР наняли нескольких евреев, с тем чтобы те по своим неформальным каналам помогали лоббировать белорусские интересы и налаживать связи.
Первым таким евреем - сотрудником белорусской миссии - стал Исаак Лурье из Пинска. Его отец Григорий Лурье был сионистским активистом, и у Исаака сохранились налаженные связи с сионистскими лидерами, такими как Вайцман, Соколов и Моцкин. В начале своего сотрудничества с БНР в изгнании в 1920 г. Лурье работал журналистом в Копенгагене [Герасимова 2002]. И он стал представителем БНР в Копенгагене. Барков был доволен его ревностной службой, в частности, доходами, которые Лурье смог извлечь из продажи паспортов белорусским гражданам в Копенгагене [Arche 70, 136]. Позднее Лурье возглавил пресс-службу БНР
5 5 декабря 1921 г. А. Луцкевич дал интервью «Undzer Tog» о предстоящих выборах в литовский парламент [Луцкевич 1921c ]. В идишской и белорусской прессе он продолжал публиковать статьи, нацеленные на это сближение [Луцкевич 1921a; Луцкевич 1921b; Луцкевич 1924a; Луцкевич 1924b].
в Скандинавии. Он был преданным сторонником борьбы белорусов за независимость и очень деятельно занимался распространением информации о ней в скандинавских и, шире, западных средствах массовой информации. Так, в январе 1921 г. он сообщил берлинской белорусской миссии, что несколько скандинавских журналов собираются открывать общий офис в Берлине, и указал, что «необычайно важно» регулярно посылать им новости [Arche 151, 253-254]. Он также сыграл ключевую роль в распространении информации о погромах и оповещении о позиции БНР относительно актов насилия над евреями. В 1921 г. он публиковал в литовских газетах интервью и статьи, в которых призывал другие страны поддержать Беларусь в ее борьбе за независимость [Лурье 1921]. С его точки зрения, евреи Восточной Европы должны были сыграть ключевую роль в защите освобожденных народов от центростремительных склонностей русского народа, с тем чтобы искоренить память о той роли, которую евреи «к своему стыду» сыграли в русификации Украины, Польши и Беларуси [Герасимова 2002, 52].
Вторым евреем, начавшим работать на БНР в этот период, стал студент Давид Анекштейн, сионист караимского происхождения из Минска [Arche 74, 139-140, 244]. В ноябре 1920 г. Ластовский назначил его военным атташе БНР в Берлине [Arche 73, 139; Архшы БНР 2508, 963], но в официальных документах он именуется «советником» («радником»). Через месяц после назначения он послал Ластовскому план действий, направленный на установление более тесных отношений между БНР, сионистами и еврейскими сообществами [Arche 76, 141]. Отталкиваясь от дипломатической стратегии БНР, нацеленной на великие державы, Анекштейн рекомендовал сделать еще один шаг и обратиться к крупным сионистским деятелям, таким как Курт Блюменфельд, Мартин Розенблат, Нахум Соколов, Лео Моцкин и Бен-Ами6. Он также предложил установить контакты с «германскими социалистами и особенно с борцами за независимость через (Альберта) Баумайстера, Хазановича и Бяличку (руководитель борцов за независимость Саксонии)»7. Альберт Баумайстер, профсоюзный деятель и журналист, который работал в Международной
6 И Блуменфельд, и Розенблат были на тот момент членами берлинского бюро Всемирной сионистской организации. Блюменфельд в 1911-1914 гг. был генеральным секретарем ВСО. Соколов занимал ту же должность в 1906 г., в 1920 г. был избран председателем Сионистского исполнительного комитета, а в 1931 г. стал президентом ВСО. Моцкин был одним из основателей (наряду с Вайцманом) демократической фракции в сионистском движении в России (1901 г.), в 1914 г. создал Германский комитет по освобождению российских евреев и возглавлял сионистскую делегацию на Парижской мирной конференции. Бен-Ами был ив-ритским писателем и теоретиком сионизма, участвовал в организации первого Сионистского конгресса в 1897 г.
7 Вероятно, имеется в виду Леон Хазанович, лидер «Поалей Цион», редактор партийного журнала «Der yidisher kemfer», друг Борохова. Он задокументировал
организации труда (МОТ) в Женеве, а затем в Берлине, по мысли Анек-штейна, должен был быть крайне полезен для организации публикаций в немецкой, швейцарской и французской прессе. Наконец, Анекштейн советовал «наладить отношения с евреями - уроженцами Беларуси, проживающими в Германии, чтобы заинтересовать их белорусским вопросом». Он утверждал, что все эти контакты помогут наладить поступление доходов в бюджет БНР через займы и паспортные пошлины. Ластовский встречался с Соколовым и Моцкиным в ноябре-декабре 1920 г., во время сессии Лиги наций в Женеве, и на этой встрече они обещали ему свою помощь [Архшы БНР 2541, 975], однако Ластовскому не терпелось увидеть более определенные результаты, и в письме Анекштейну от 21 января 1921 г. он спрашивает, встречал ли тот Жаботинского и состоит ли в переписке с Соколовым и Моцкиным [Arche 80, 145-156]. В том же письме он предлагает разослать книгу Вальтера Егера «Weissruthenien» («Белорусы») по американским и еврейским газетам. Анекштейн исполнил желание Ластовского и написал письмо Моцкину и Соколову (12 февраля 1921 г.) с просьбой о поддержке [Arche 84, 153]. В письме он выражал надежду на то, что после «нашего успеха» в Женеве и отхода поляков из Виленской и Гродненской областей референдум о статусе Виленской области покажет результаты, выгодные белорусам, евреям и литовцам, и что обретение Беларусью независимости не за горами8. Анекштейн интересовался, встречали ли они Исаака Найдича, сиониста и бизнесмена, председателя финансово-экономической комиссии Всемирной сионистской организации, в Лондоне и в Париже и просил посоветовать сионистского лидера, который бы стал сотрудничать с правительством БНР в деле образования независимого белорусского государства, где у евреев будет не только значительная национальная автономия, но и гражданское равноправие и пропорциональное их численности представительство в правительстве. Анекштейн связался также с Хазановичем, находившимся в США, и попросил его сообщить информацию о БНР еврейским газетам и организациям [Arche 85, 154]. Баумайстер из Женевы помог ему с публикациями во французской печати, и Анекштейн попросил у него контакты лондонских социалистов [Архшы БНР 2770, 2783]. Позднее, в июле 1921 г., Анекштейн организовал приезд в Берлин Симона Розенбаума, председателя Еврейского национального совета в Литве, и устроил ему встречи с немецкими сионистами и еврейскими интеллек-
погромы и преследования евреев в 105 польских городах и местечках в ноябре-декабре 1918 г. и был редактором «Arkhiv fun'm idishn sotsialist» (Берлин, 1921).
8 Интерпретация, которую Анекштейн дает так называемому плану Иманса, чрезмерно оптимистична. План предусматривал вхождение Срединной Литвы (Виленской и Гродненской областей) в Литовскую федерацию и признание многоэтничности этого региона, однако он не получил одобрения ни Литвы, ни Польши [Чернякевич 219].
туалами, заодно заручившись его поддержкой в деле получения литовских займов для БНР [Архшы БНР 2843]. Деятельное налаживание связей, которым занялся Анекштейн, подавало большие надежды и заложило основание для следующего этапа сближения БНР с евреями - создания Министерства по делам национальных меньшинств по случаю третьей годовщины провозглашения независимости в марте 1921 г. Пост министра предложили белорусскому еврею и видному общественному деятелю Самуилу Житловскому, брату Хаима Житловского; другой его брат -Моисей Житловский в июне 1920 г. вошел в правительство Ластовского в качестве министра торговли и промышленности [Сакалоуск 2009, 25].
Создание Министерства по делам национальных меньшинств именно в этот момент, в изгнании, свидетельствует об острой необходимости для евреев и белорусов защитить - как символически, так практически - принципы национального самоопределения и права народов, угнетенных Польшей и Россией, в новой геополитической ситуации, продиктованной Рижским мирным договором. Житловский был в этом отношении очень полезным человеком. Он учился в Московской консерватории и стал преподавателем музыки, дирижером собственного симфонического оркестра и скрипачом-солистом; он занимался всем этим в Витебске, своем родном городе, куда вернулся после учебы в Москве. В то же время он помогал своему отцу с семейным бизнесом и занимался торговлей. Затем он некоторое время прожил в Риге, Москве и Петербурге, а после Октябрьской революции эмигрировал в Литву - в Вильно, а затем в Каунас [Герасимова 2009, 75]. Его образование, деловой опыт и связи (коими он был обязан своему брату Хаиму) с выдающимися еврейскими интеллектуалами и деятелями культуры в Восточной Европе и США делали его идеальным кандидатом на должность министра по делам национальных меньшинств. Он жил преимущественно в Берлине, но время от времени разъезжал по миру.
О назначении Житловского было объявлено в международной еврейской прессе (например, [Sentinel 1921a]), и его вступление в должность сопровождалось несколькими вышедшими в литовских изданиях интервью, где он проводил идею о необходимости тесного сотрудничества евреев и белорусов в деле построения независимого белорусского государства. Заняв кресло министра, в своей первой речи он подчеркнул, что евреи, которых «угнетали в старину и египтяне, и ассиро-вавилоняне, и римляне», стремятся «к свободе нашей нации и к братскому сожительству со всеми народами, вместе с которыми живем» [Герасимова 2009, 74]. Он осудил оккупацию Беларуси поляками и русскими и решительно поддержал национальное освобождение белорусов как замысел, совместимый с сионистским идеалом и даже способствующий его воплощению: «...еврейское государство не сможет полностью решить "еврейский вопрос"... Возможность не только равноправного, но и полноправного существова-
ния еврейского народа в Беларуси является одной из гарантий успешной реализации сионизма. В этой работе по созданию независимой Беларуси должны принять участие все евреи, которым дороги интересы еврейского народа. Участие в этой работе каждого еврея, активное или пассивное, обязательно. Если Палестина наш военный фронт, то Беларусь, Польша и Галиция - наш тыл. А фронт без тыла ничего не значит» [Герасимова 2009, 76]. Одним из первых действий Житловского на посту министра стала подготовка проекта соглашения «о совместном, на равных, строительстве БНР белорусами и евреями, двумя основным народами Беларуси». В этом документе, который я опубликовала и проанализировала в другой своей работе [Le Foil 2008, 68], Житловский уравнивает евреев и белорусов в деле созидания белорусского государства: «Исходя из факта историчности евреев в Беларуси и численности еврейского населения в Беларуси, в силу чего белорусы и евреи являются двумя доминирующими нациями на территории Беларуси, - обе нации - белорусская и еврейская, заключают договор о восстановлении Белорусской Демократической Республики». Вдохновляясь принципами национально-культурной автономии (каждый народ получит культурную, религиозную и образовательную автономию, отдельные суды, пропорциональное представительство в правительстве и государственных институтах), Житловский пошел еще дальше и потребовал, чтобы «между белорусами и евреями равные права [...] и самоотверженное содействие искоренению дефектов и оплошностей, подъему хозяйственного и культурного уровня не только доминирующих наций, но и вообще всего населения БНР» [НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 119, Л. 6]. Житловский широко афишировал это соглашение и свою роль в БНР. Он давал интервью и публиковал статьи в международной прессе, где рассказывал об этом уникальном договоре, который евреи и белорусы подписали в марте 1921 г. [Tribune 1921; см.: Архшы БНР 2755 1113]. О создании этого министерства и выборе этой новой стратегии шла речь в декларации правительства БНР, изданной на идише в третью годовщину провозглашения независимости (25 марта 1921 г.). Там говорится, что «две суверенные нации, живущие на белорусской земле, представили себя единым народом, которому предстоит общая борьба за свою землю, культуру и государственность» [Arche, 533-534; The Hebrew standard, 01.07.1921].
И четвертый еврей примкнул к команде БНР в Берлине. Финансист и банкир Давид Лурье родом из Черниговской области стал коммерческим и финансовым агентом белорусского правительства в Германии, однако без жалования. Он помогал главе миссии Андрею Боровскому, в марте 1921 г. сменившему на этом посту Баркова, налаживать сотрудничество между белорусскими предприятиями и Германией, дабы обеспечить белорусское правительство доходом. Ластовский просил его помощи в моменты финансовых затруднений, когда БНР пыталась получить кредит, например, в апреле 1921 г. [Arche 101, 170-171] или в августе 1922-го [Arche 117, 1840].
Самуил Житловский и БНР
Сотрудничество Житловского с БНР продолжалось до 1923 г. [Arche 188, 299], но наиболее активным оно было с марта по ноябрь 1921 г. В течение этого периода он установил контакты с сионистами и еврейскими деятелями в Германии и за ее пределами, представлял БНР на Сионистском конгрессе, поддерживал инициативы по осуждению погромов и помогал БНР осуществлять торговые и финансовые операции. Это комплексное понимание своей роли наглядно иллюстрирует письмо Жит-ловского Ластовскому от 30 апреля 1921 г., в котором он отчитывался по всем вопросам - от связей с общественностью до экономики и дипломатии [Архшы БНР 2748]. Он наладил связи с различными представителями берлинского еврейского сообщества и ходатайствовал о расширении берлинской пресс-службы. Он получил пожертвования в пользу БНР и ожидал поступления новых, в частности, двух тысяч фунтов стерлингов, которые ему обещали в Лондоне. Он успешно заручился поддержкой IWEG (Internationale Waren-Export und Import Gesellschaft, Международная компания по экспорту и импорту товаров) и с ее помощью заключил сделку по экспорту сырья из Каунаса (соли, бумаги, стекла, льна, пеньки, щетины) [Там же]. В последующие месяцы он продолжал заботиться о расширении торговых отношений с Германией в целом. В августе он обеспечил поступление на счет БНР 700 000 марок через посредство IWEG (возможно, это был кредит) [Архшы БНР 2898]. Он был уверен, что эти финансовые поступления позволят ему отправиться в Лондон и Америку, где, как он считал, его ожидало много работы, поскольку почва уже подготавливается и «ответственные еврейские круги пойдут нам навстречу, вполне сочувствуя нашей идее» [Архшы БНР 2748]. На этом этапе Житловский не получал жалованья от БНР, но брал на личные расходы процент от денег, которые поступали в бюджет БНР по его каналам. Его оптимизм был безграничен: «Работы здесь очень много, но бодрости и веры в наше будущее еще больше!» [Там же]. Энтузиазмом проникнуто и написанное на русском письмо к брату Хаиму, в котором он сообщает о своем намерении приехать в США для сбора средств на нужды БНР и просит его о помощи [Герасимова 2009, 76]. В июле он участвовал вме9 сте с белорусскими и еврейскими деятелями в дискуссии о еврейском вопросе в Беларуси, прошедшей в штаб-квартире БНР в Каунасе, в отеле «Метрополь». Ластовский и ряд белорусских активистов, в том числе редактор «Вольной Литвы» Я. Воронко, И. Лурье и еврейские общественные деятели и журналисты (М. Крейнин, Л. Бабков, Бен-Адир, С.В. Познер и Лейзеров, редактор Diyidishe shtimme) произносили прочувствованные речи о единстве белорусов и евреев и готовности последних поддерживать белорусский народ в его борьбе за независимость. Белорусские политики выражали намерение создать такое белорусское государство, в
котором евреи будут сохранять свою независимость и жить собственной культурной и хозяйственной жизнью, в мире и спокойствии, без малейшего понуждения к ассимиляции [Архшы БНР 2847, 1148-1149]. В течение этих первых месяцев Житловский был очень предан делу БНР и стремился играть первую роль на всех фронтах.
Отношения с коллегами по БНР начали портиться осенью, однако Житловский продолжал исполнять свои многочисленные обязательства и в 1922 г. Помимо общего ухудшения положения БНР в 1921 г. в связи с возрастающими финансовыми трудностями и испортившимися отношениями с Литвой, камнем преткновения в отношениях Житловского с правительством БНР стало то, что они по-разному представляли себе его роль как министра. Житловский видел себя посланцем от белорусского народа к евреям всего мира и исполнял эту роль очень деятельно и ответственно. Однако при этом он считал себя не только исполнителем чужих поручений, но полноправным членом правительства БНР. Он хотел, чтобы к его взглядам на стратегию и планам на будущее прислушивались. Напряжение нарастало и достигло кульминации летом 1921 г., когда Ластовский, который по-прежнему был в Каунасе, оставил без ответа несколько писем Житловского и не стал информировать его об изменениях в отношениях между БНР и Литвой. Ситуация усугублялась тем, что волна погромов на белорусской территории нарастала. Житловский переживал, полагая, что первые трещины в союзе с Литвой и нарастающий антисемитизм там пагубны для Беларуси и «льют воду на польскую мельницу»: «...нам же теперь необходимо полное единение и объединение всех живых сил» [Архшы БНР 2909, 1170]. В письмах к Ластовскому Житловский сетовал на то, что ему не сообщили о последних решениях и не прислали брошюры и копии меморандумов, которые он мог бы распространить на Сионистском конгрессе [Архшы БНР 2929, 1199]. Растущее разочарование Житловского хорошо заметно в его многочисленных взволнованных письмах Ластовскому, а затем Цвикевичу, министру иностранных дел в правительстве БНР, написанных в преддверии конгресса сионистов в Карлсбаде; в этих письмах он выражал свою тревогу по поводу растущего шовинизма и «плохо скрытого антисемитизма» литовцев, а также требовал подтверждения того, что Литва по-прежнему остается главным союзником Беларуси [Архшы БНР 2948, 1208].
И тем не менее Житловский представлял БНР на XII Сионистском конгрессе в Карлсбаде в сентябре 1921 г. и был доволен результатами: «Я имел свидания и продолжительные собеседования с Президентом XII Сионистского конгресса Н. Соколовым, а также членами Президиума гг. Моцкиным, д-р[ом] Вейцманом (Президент экзекутивы Сионист. партии), Гольдбергом и другими. Г-ну Соколову я передал меморандум, в котором осветил политическую, экономическую и культурно-просветительную ситуацию в Беларуси в настоящий момент» [Архшы БНР 2955, 1213]. Он
также встретился с доктором Коном, председателем белорусских организаций в США. Житловскому «была конкретно обещана моральная и материальная поддержка в Лондоне и Америке, но не из средств Сионистской партии, а из других общественных источников» [Там же]. Он много беседовал с редакторами и корреспондентами крупнейших еврейских журналов в Америке, Англии и Франции, которые, к его разочарованию, либо ничего не знали о белорусской проблеме, либо обладали неверной информацией, предоставленной им поляками. Житловский встречался и с литовским министром по делам евреев Максом Соловейчиком. Особенно многообещающей, с точки зрения Житловского, была встреча с писателями Н. Бя-ликом и З. Шнеуром, поскольку те «пользуются громадным влиянием на интеллигентные еврейские массы». Паспорт Бялика там не упоминался, но есть основания предполагать, что усилия Житловского и Анекштейна по установлению партнерских отношений с сионистами, которые увенчались успехом в виде радушного приема, оказанного Житловскому в Карлсбаде, могли привлечь внимание сионистов к БНР и подать им идею обратиться в представительство БНР в Константинополе с просьбой о выдаче Бялику белорусского паспорта. Житловский был особенно доволен своей беседой с З. Шнеуром, «белорусом (из Шклова), [который] оказал мне здесь очень много ценных услуг в смысле знакомств и связей, очень много работает для нас и обещал уделить нашему делу много внимания» [Там же]. Житловский предложил назначить его «советником Министерства по делам меньшинств», но без жалования, чтобы его сотрудничество продолжало быть исключительно добровольным. Житловский также провел продуктивную беседу с доктором Якобсоном, директором издательства Jüdischer Weltverlag в Берлине, человеком влиятельным и обладающим обширными связями в немецких журналистских кругах.
Энтузиазм Житловского пошел на спад в конце 1921 г., когда финансовые затруднения БНР и визовые проблемы помешали его намерению отправиться в Лондон. Как будет показано ниже, он тем не менее выдвинул инициативу создания белорусской организации помощи для жертв погромов, с которой З. Шнеур был тесно связан, и пополнил свою сеть контактов Союзом русских евреев в Берлине, который до того был не в курсе белорусского вопроса. Его письма Ластовскому, написанные осенью и зимой 1921 г., были уже не столь оптимистичны, как более ранние. В письме, датированном 8 декабря 1921 г., он оправдывал очевидное отсутствие каких-либо результатов своей деятельности, а также жаловался на свою изоляцию в правительстве:
Нельзя строго осуждать евреев, которые в настоящей ситуации не подходят
к нашему делу, так как они до сих пор совершенно не ознакомлены с нашей
идеей. Для привлечения еврейских масс до сих пор ничего не было сделано.
С моим вступлением в Кабинет только началась работа, которая одному че-
ловеку и без средств не под силу. Но я с чувством удовлетворения могу сказать, что я наше дело среди еврейства сдвинул с мертвой точки, и чем дальше, тем путь будет шире и наша идея, как справедливая и жизненная, сама уже будет привлекать к себе массы. Нужно только немного терпения и побольше доверия к своим товарищам по тернистому пути. Я подошел к делу не ради славы и материальной корысти, которых, как Вы знаете, я не имею, и нет той силы, которая могла-бы меня оторвать от нашего святого дела, которому отдаю все мои силы и все мое время. Но я очень сожалею о том несочувствии, которое замечаю среди некоторых наших товарищей, которые по близорукости своей не понимают, что для нашего дела важнее всего моральный успех, а материальный за ним придет вслед сам собой [Архшы БНР 3049, 1253].
В следующем отчете Ластовскому он упомянул встречу с Вайцманом, который пообещал ему помочь получить визу в Англию, но в то же время он, похоже, утратил свои иллюзии относительно поддержки сионистов и выражал готовность продолжать самостоятельную акцию, если «сионисты откажутся нам помочь» [Архшы БНР 3068, 1259]. В первый раз за всю переписку он также написал о своих финансовых затруднениях и отметил, что ему ничего не платили с 15 июля 1921 г. Письмо Ластовско-му от находившегося тогда в Берлине Цвикевича, министра иностранных дел БНР, датированное мартом 1922 г., проливает свет на трения между Житловским и юрисконсультом БНР Бруно Мюллером9: «Мало делал и Ж[итловск]ий и Бр[уно] К[арлович Мюллер]. Ко всему прочему, они между собой не ладили, не работали вместе и вообще привели дела в невразумительное состояние. Они не любят друг друга и поносят, а кто из них лучший - неизвестно. Известно только то, что все смотрели в разные стороны и заботились о деньгах» [Архшы БНР 3140, 1291]. Цви-кевич отметил, однако, что Житловский с помощью Вайцмана получил дипломатический паспорт, чтобы ехать в Лондон вместе с Анекштейном. Он упоминает просьбу Житловского выделить ему средства на поездку и советует Ластовскому дать ему небольшую сумму денег. Он сомневается, что Житловский успешно реализует свой план по привлечению доноров, однако выражает удовлетворение тем, что Соловейчик поможет ему наладить полезные связи в Лондоне [Там же, 1292].
Долгожданная поездка в Лондон Житловского с Анекштейном, наконец, состоялась в июне 1922 г., но оказалась не такой успешной, как они надеялись. В архивах нет официального отчета о поездке, лишь открытка Ластовскому, в которой они просят срочно выслать копии резолюции
9 Бруно Мюллер также участвовал в создании Германо-российского общества в декабре 1919 г., то есть до того, как стал сотрудничать с миссией БНР 1999, 22].
БНР, осуждающей погромы [Архшы БНР 3240]. Боровский упомянул поездку в письме к Ластовскому и отозвался о ней с явным разочарованием: «Житловский и Анэкштейн возвратились из Лондона уже месяц тому назад. Но первого я совсем не видел, и он уже уехал к семье в Цопот, а второго встретил случайно на улице. По его спутанному и спешному рассказу, всю вину за неудачу поездки для "белорусского дела", а таковая для меня очевидна, они переносят на Ковно, "отказавшее им в решительную минуту в деньгах"... Наглость человеческая не имеет границ, и мне тяжело об этом писать» [Arche 117, 184].
После поездки работа Житловского на миссию БНР в Берлине, по-видимому, ограничивалась улаживанием отношений с IWEG, которая обн виняла БНР в том, что та не поставила обещанное количество сырья, и белорусы вынуждены были себе в убыток продавать немецкие промтовары плохого качества, которые отправляла им IWEG [Чернякевич 2018, 239-241]. В январе 1923 г. в ответ на просьбу Ластовского заняться торговыми делами он выразил свое разочарование тем фактом, что Ластовский проигнорировал его письмо, отправленное три месяца назад. Он заявил, что теперь «настало время для иной работы, для нашей прямой деятельности, к которой мы призваны», имея в виду политическую деятельность [Архшы БНР 3377]. Тем не менее он давал советы касательно того, как расторгнуть отношения с IWEG таким образом, чтобы репутация БНР пострадала не очень сильно: «Единственный наш козырь здесь в Берлине это то, что мы хотя бедны, но честны. На нас здесь смотрят как на представителей определенной политической группы, которая не занимается авантюрами, шиберством и т. п. Но если мы потеряем наше реномэ, то мы все потеряем». Он предложил заплатить 10% всех долгов БНР, с тем чтобы потом договориться о выплате по частям и избежать скандала.
Сотрудничество Житловского с БНР завершилось отнюдь не на высокой ноте, он так и не добился результатов, на которые надеялся сам и на которые рассчитывала БНР. У него не получилось заручиться конкретной и масштабной поддержкой международного еврейского сообщества. Однако же ему удалось познакомить некоторых еврейских лидеров с белорусской национальной идеей. И наконец, последним проектом, который пытались реализовать Житловский, Анекштейн и Лурье, чтобы нарушить изоляцию БНР и добиться известности и поддержки в эмигрантских кругах Берлина, была организация оказания помощи жертвам погромов и голода.
Роль БНР в организациях помощи жертвам погромов и голода
Начавшаяся в Беларуси до Рижского мира, летом 1920 г., и продолжавшаяся после него, до осени 1921 г., страшная волна погромов, о которой
много писала международная еврейская пресса, рассматривалась еврейскими членами берлинской миссии БНР, включая Лурье, как важный момент в белорусско-еврейском сближении. В ходе погромов погибли более двух тысяч евреев и тысячи были ранены и изнасилованы. Погромы осуществляли преимущественно польские военные отряды, однако отряд Булак-Балаховича, признанный правительством Ластовского в январе 1920 г., тоже принимал участие в погромах [Будницкий 2005, 337; Милякова 2007, VIII-IX]. Правительство БНР в изгнании не сразу отреаз гировало на эти акты антиеврейского насилия [Le Foil 2008; Герасимова 2000]. Лурье, Житловский и Анекштейн, однако, летом 1921 г. постоянно давили на руководителей БНР, убеждая их быть смелее и публично высказать позицию БНР в отношении погромов. Статья на эту тему опубликована в июне пресс-службой БНР, и на заседании президиума Рады 14 июля этот вопрос был вынесен на обсуждение, Ластовский и Жит-ловский выступили с речью о погромах. Рада решила, что необходимо предпринять ряд действий, чтобы положить конец этим позорным деяниям, происходящим на белорусской территории: призвать белорусский народ не участвовать в погромах и делать все возможное, чтобы остановить их; организовывать встречи и лекции и публиковать материалы по еврейскому вопросу, чтобы пропагандировать идею братства евреев и белорусов и их права на совместное проживание в Беларуси; призвать все белорусские партии и организации использовать свое влияние, чтобы бороться с погромами на белорусской земле [Архшы БНР 2851, 1150]. Поскольку погромы продолжались в течение лета, БНР отправила ноту советскому правительству, в которой заявляла протест против погромов и обвиняла советскую власть в бездействии и даже возлагала на нее ответственность за происходящее, а также требовала допустить своих представителей на территорию Советской России, чтобы «выступать против подстрекателей к погромам» [Arche 159, 264-265]. Позиция БНР относительно погромов была обнародована в Бюллетене белорусского пресс-бюро в Каунасе и в международной еврейской печати Haynt 1921; Sentinel 1921b]. Готовясь к конгрессу в Карлсбаде, Житловский призвал Ластовского предпринять дальнейшие действия по борьбе с погромной агитацией, проводимой польскими бандитами, а именно «иметь во всех еврейских центрах специальных наших комиссаров, которые должны организовать крестьян против бандитских шаек». Ему, впрочем, было известно, что БНР не хватало материальных ресурсов. Он попросил подготовить брошюру о разрушительности погромов для Беларуси, чтобы затем распространять ее за границей и, в частности, на Сионистском конгрессе в Карлсбаде [Архшы БНР 2911, 1172]. В октябре он создал организацию по борьбе с еврейскими погромами и погромными тенденциями во всем мире.
Помимо настояний как можно шире распространять призыв БНР бороться с погромами Житловский предложил Раде сделать официальное заявление по поводу голода в России [Архшы БНР 2898]. Голод, наступивший из-за неурожая вследствие засухи и суровой большевистской политики продразверстки - изъятия зерна и других продуктов у крестьян, -заставил большевиков просить западные страны о помощи. Житлов-ский был уверен, что Беларусь и ее естественный союзник Литва только выиграют в этой ситуации, когда мировая пресса в самом негативном ключе освещает положение в России и неспособность большевистского правительства спасти свое население от голодной смерти. Готовясь к поездке в Карлсбад, он настаивал на необходимости привлечь к этому делу не только Германию, но и Антанту, с тем чтобы получить и моральную, и материальную поддержку. «Я твердо верю, что в связи с событиями, которые теперь разыгрываются в голодной России, возможно, что наши мечты осуществлятся скорее, чем мы думаем» [Архшы БНР 2909, 1170].
Таким образом, идея создать комитет помощи людям, голодающим в Беларуси, возникла в «белорусской колонии» в Берлине в августе. Первая встреча под председательством главы миссии БНР Боровского прошла 20 августа; на ней были разъяснены цели организации, после чего лекцию о голоде прочел Анекштейн ^сЫо£е1 1999, 72]. Белоэмигрантский белорусский общественный комитет в Германии помощи голодающим в Белоруссии был официально создан 15 сентября и зарегистрирован по адресу миссии БНР в Берлине: Моцштрассе, 21 [ГАРФ, Ф. Р-6229, Оп. 1, Д. 1]. Комитет придерживался политического нейтралитета, его целью было оказать «помощь всем людям, голодающим в Беларуси, без различия национальности, вероисповедания и партийной принадлежности». Официальный бланк комитета был напечатан на четырех языках: белорусском, русском, идише и немецком. Возглавлял комитет президиум, избранный 17 сентября: Боровский стал президентом, З. Шнеур - вице-президентом, Анекштейн - секретарем, а Цвикевич - казначеем. В комитете было широко представлено руководство БНР, включая Житловского, Бруно Мюллера и Исаака Лурье, который присоединился к комитету из Данцига в декабре [ГАРФ, Ф. Р-6229, Оп. 1, Д. 8, Л. 22]. В то же время в комитет вошли и еврейские деятели из сионистских/гебраистских кругов, которых привели Анекштейн или Житловский: это З. Шнеур и Гурвич, Юлий Сыркин и Исаак Фридлянд. Попали туда и авантюристы вроде Бориса Солодовникова10, и несколько белорусов и русских, которые с трудом
10 Возможно, это был Ш. И. Гурвиц, который до войны издавал в Берлине два ив-ритских журнала, в начале 1920-х вернулся в Берлин и создал кружок гебраистов, включавший Бялика, Черниховского, З. Шнеура, Н. Соколова [Будницкий, Полян 2013, 195]. Юлий Сыркин занимался продажами в издательстве Сыркина, продолжении виленского издательства «А. Сыркин», специализировавшегося на учебниках и методических материалах [Schlögel 1999, 560, fn. 231]. Исаак Фридлянд
поддаются идентификации (Конторович, Александр Дмитриев, Владимир Борич, Иван Макаревич, Георг Зельдович [ГАРФ, Ф. Р-6229, Оп. 1, Д. 3a, Л. 22]. О создании комитета сообщил Бюллетень БНР (№ 35 за сентябрь 1921 г.) [Arche 161, 266]. Комитет регулярно собирался в течение осени. Он начал с организации различных отделов, включая женский отдел, и составления декларации о намерениях [ГАРФ, Ф. Р-6229, Оп. 1, Д. 3a, Л. 1, 3, 4]. Они также установили контакты с различными организациями: советской миссией Красного Креста в Берлине, польским представительством в Берлине, комитетами белорусской общественности в Чехословакии, Латвии, Литве, Вильно, а также с Парижским общественным комитетом.
Главная задача комитета состояла в том, чтобы снабжать Беларусь необходимыми продуктами и товарами, и он установил контакты с российскими неправительственными структурами в Берлине (такими как Советская миссия Красного Креста), а также с представителями советских и польских властей, с тем чтобы организовать отправку и транзит посылок с одеждой, едой, медикаментами и семенами. Много усилий было вложено в распространение информации об этой кампании, и комитет собирался сделать постер на белорусском и идише [Там же, Л. 17]. Они также планировали собрать какие-то средства на благотворительном концерте, который должен был организовать Житловский [Там же. Л. 12, 15]. Комитет издавал свой бюллетень [ГАРФ, Ф. Р-6229, Оп. 1, Д. 6] и планировал распространять информацию о своей кампании в американской, русской и еврейской прессе с целью привлечь средства [ГАРФ, Ф. Р-6229, Оп. 1, Д. 8, Л. 29].
Инициатива комитета получила принципиальную поддержку у всех организаций, к которым он обратился: Российского общества Красного Креста, Российского общественного комитета помощи голодающим в России, Российского комитета во Франции по оказанию помощи населению, пострадавшему от голода в России, и Польской миссии в Берлине [ГАРФ, Ф. Р-6229, Оп. 1, Д. 8, Л. 5, 8, 12]. С находившимся в Данциге Исааком Лурье связывались многие белорусы, стремившиеся передать посылки своим голодающим родственникам в Советской Белоруссии [Там же, Л. 17], и Лурье старался распространить информацию об этом [Там же. Л. 22]. Русский кооператив «Русская колония» тоже вышел на связь с комитетом, чтобы принимать участие в отправке посылок [Там же. Л. 26], однако у белорусского комитета, по всей видимости, были трудности с
мог быть студентом (Schlogel 1999, doc 3963). Борис Солодовников был человеком бурной судьбы: он участвовал в Русско-японской войне и революции 1905 г., вступил в партию эсеров и был арестован за терроризм, по освобождении в 1916 г. был мобилизован в российскую армию, потом вступил в ряды белогвардейцев. Свои приключения в Сибири он описал в книгах «Сибирские авантюристы и генерал Гайда: Из записок русского революционера» (Прага, 1921) и «Наш счет» (Берлин, 1922).
организацией перевозок [Там же. Л. 27]. Известно, что правительство БНР не сумело ничего сделать, чтобы остановить погромы, показав свою полную неэффективность и беспомощность в этом отношении. Оно сделало заявление во время своей национально-политической конференции в Праге в октябре 1921 г. [Arche 162, 268-269], но трудно оценить влияние и эффективность действий БНР, в частности, Берлинского комитета, который даже не упоминается в историографии, посвященной берлинской эмиграции или БНР. Каковы бы ни были конкретные результаты его деятельности, само существование этого комитета представляет собой пик деятельности Житловского, Лурье и Анекштейна, трудившихся над построением мостика между белорусскими и еврейскими политическими, культурными и экономическими интересами и задачами. Благодаря их усилиям, прежде всего, в деле налаживания контактов еврейские и нееврейские эмигрантские организации рассматривали правительство БНР как возможного союзника в деле помощи жертвам погромов.
Заключение
Время Берлина как столицы белорусской дипломатической деятельности настало тогда, когда литовская политическая и финансовая поддержка прекратилась и центр тяжести борьбы за «белорусское дело» переместился в Чехословакию и США. Деятельность правительства БНР не достигла своей главной цели - создать независимое государство, -поскольку союзники не оказали ей должной поддержки. Однако можно утверждать, что деятельность БНР хотя бы способствовала тому, что в мире узнали о существовании Беларуси и ее борьбе за независимость, а также успеху политики белорусизации и идишизации в БССР [Пурышеу ва 2009]. Многочисленные попытки Анекштейна, Лурье и Житловскот го познакомить политическую и интеллектуальную еврейскую элиту, преимущественно сионистов, с белорусской идеей - путем организации встреч, публикации интервью, в письмах и в поездках - несомненно способствовали этому. Их неустанная деятельность создала условия для временной «белорусизации» Бялика и помогла донести голос белорусов до сообществ, находящихся за пределами белорусских дипломатических кругов, до еврейской культурной элиты и эмигрантской среды Берлина в целом. Этот эпизод короткого, но насыщенного сотрудничества показывает, что белорусские и еврейские интеллектуалы соглашались в принципе в том, что еврейский народ - это неотъемлемая часть белорусского национального проекта, но на практике подходили к этому по-разному. На практике белорусские политики были склонны отводить евреям второстепенные и функциональные роли агентов или лоббистов белорусского дела, которые тех не удовлетворяли. Еврейско-белорусский
медовый месяц дал неоднозначные результаты и закончился, по-видимому, к 1922 г., когда Берлинская миссия оказалась под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей, и тем не менее это сотрудничество помогло Бялику выбраться в Европу, а главное - заложило основу для все возрастающего внимания друг к другу и сотрудничества евреев и белорусов в Советской Белоруссии.
Источники
Арх1вы БНР - Арх1вы Беларускай народнай рэспубл1К1 / Сост. С. Шупа. Т. 1. Кн. 1-2. Вшьня; Нью-Ёрк; Менск; Прага: Наша Шва, 1998. 1640 с.
Арх1вы БНР 2541. Записи В. Ластовского на сессии Лиги наций,
10-16.12.1920. = Lietuvos centrinis valstybés archyvas (LCVA), f. 582, op. 1, d. 45, l. 87.
Арх1вы БНР 2748. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 30.04.1921. = LCVA, f. 582, op.1, d.25, ll. 75-76.
Арх1вы БНР 2755. Интервью С. Житловского в Der Mizrekh Yid, 6.5.1921. = LCVA, f. 582, op. 1, d. 37, l. 3.
Арх1вы БНР 2770. Письмо А. Баумайстер Д. Анекштейну, 27.05.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 53, l. 182.
Арх1вы БНР 2783. Письмо Д. Анекштейна А. Баумайстеру, 7.06.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 53, l. 183.
Арх1вы БНР 2790. Письмо Яна Ермаченко (Константинополь) В. Ластовскому, 14.06.21. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 53, l. 105-106.
Арх1вы БНР 2843. Отчет Д. Анекштейна о пребывании Симона Розенбаума в Берлине, 9.07.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 12, l. 1.
Арх1вы БНР 2847. Приглашение С. Житловского В. Ластовскому участвовать в дискуссии «Еврейский вопрос в Беларуси» в отеле «Метрополь», 11.07.1921. = LCVA, f. 582, op. 1, d. 46, l. 15.
Арх1вы БНР 2851. Отрывки из стенограммы заседания президиума Рады БНР, 14.07.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 58, l. 35.
Арх1вы БНР 2898. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 01.09.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 58, l. 158.
Арх1вы БНР 2909. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 5.08.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 58, l. 97-98.
Арх1вы БНР 2911. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 9.08.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 58, l. 32-33.
Арх1вы БНР 2929. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 17.08.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 58, l. 30-31.
Арх1вы БНР 2948. Письмо С. Житловского А. Цвикевичу, 3.09.1921. = LCVA, f. 582, op. 2, d. 58, l. 16.
Арх1вы БНР 2955. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 9.09.1921. = LCVA, f. 582, op. 1, d.25, ll. 7-8.
Арх1вы БНР 3049. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 8.12.1921. = LCVA, f. 582, op.1, d.15, l. 313-314.
Арх1вы БНР 3068. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 29.12.1921. = LCVA, f. 582, op.1, d.15, l. 346-347.
Арх1вы БНР 3140. Письмо А. Цвикевича В. Ластовскому, 2.03.1922. = LCVA, f. 582, оп 1, d. 15, l. 29-30.
Арх1вы БНР 3240. открытка Д. Анекштейна В. Ластовскому, 2.06.1922. = LCVA, f. 582, op. 1, d. 43, l. 40.
Арх1вы БНР 3377. Письмо С. Житловского В. Ластовскому, 17.01.1923. = LCVA, f. 582, op. 1, d. 43, l. 23.
ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации
Ф. Р-6229. Оп. 1. Д. 1. «Устав белоэмигрантского Белорусского общественного комитета в Германии помощи голодающим в Белоруссии». 1921.
Ф. Р-6229. Оп. 1. Д. 3a. «Протоколы заседания (подлинные) президиума белоэмигрантского общественного комитета в Германии помощи голодающим в Белоруссии». Сентябрь - ноябрь 1921.
Ф. Р-6229. Оп. 1. Д. 6. «Бюллетень № 3 белоэмигрантского комитета
в Германии помощи голодающим в Белоруссии, г. Берлин». 13 октября 1921.
Ф. Р-6229. Оп. 1. Д. 8. «Переписка с миссией Красного Креста РСФСР
(г. Берлин), Русским общественным комитетом помощи голодающему населению России (г. Берлин) и другими организациями о работе белоэмигрантского комитета помощи голодающим в Белоруссии». Октябрь - декабрь 1921.
НАРБ - Национальный архив Республики Беларусь
Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Личное дело Хаима Нахмана Бялика, 1921.
Ф. 827. Оп. 3. Д. 34. Личное дело Бялика в консульстве БНР, 1921.
Ф. 864. Оп. 1. Д. 1. Список граждан, получивших паспорт БНР в 1919-1920 гг. в Рижском консульстве.
Ф. 325. Оп. 1. Д. 26. l. Листовки и прокламации, 1901-06.
А. К Вильня 15 (28) серпня 1908 - А. К Вильня 15 (28) серпня (аугуста) // Наша нива. 1908. № 17. С. 1-2.
Зьезд так-названаго «Союза Русскаго Народа» 1907 - Зьезд так-названаго «Союза Русскаго Народа» // Наша нива. 1907. № 26. С. 1-2.
Крапива 1906 - Крапива. З Мазырскаго Палееся // Наша нива. 1906. № 5. С. 3-4.
Лурье 1921 - Лурье И. Евреи в белорусском движении // Вольная Литва. 10.07.1921
Луцкевич 1907 - Луцкевич Л. Аб жыдох // Наша нива. 1907. № 17. С. 2-5.
Луцкевич 1921a - [Луцкевич] А.Б. Что это значит? Белорусы и евреи // Свободная Литва. 10.07.1921.
Луцкевич 1921b - Луцкевич Л. Di vaysrusn // Der haver, 01.11.1921, 500-507; 01.12.1921, 559-566 (перепечатка в: «Di naye yidishe folksshul», Vilne, 1925).
Луцкевич 1921c - Луцкевич A. Di vaysrusn un di valn tsum seym // Unzer tog. Vilna, 5.12.1921.
Луцкевич 1924a - Луцкевич A. Беларусы и жыды // Сын беларуса. 10 августа 1924. С. 1.
Луцкевич 1924b - Луцкевич A. Жыды и зямля // Сын беларуса. 24 августа 1924. С. 2.
Партии у Думе 1907 - Партии у Думе // Наша нива. 1907. № 13. С. 4-6.
Arche 70. Отчет главы миссии Л. Баркова В. Ластовскому, 1.11.1920. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1. Д. 110. Л. 38-40.
Arche 73. Предоставление полномочий Рады народных министров БНР военному атташе при дипломатической миссии в Берлине Давиду Анекштейну, 23.11.1920. = LCVA, f. 582, Оп. 2, Д. 54, Л. 459.
Arche 74. Сертификат, выданный Давиду Анекштейну Белорусской Радой, 12.07.1919. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 110, Л. 32
Arche 76. Доклад советника миссии БНР в Германии Д. Анекштейна про свои планы работы на будущее, 20.12.1920. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 110, Л. 33.
Arche 78 - Плоць i кроу БНР. Arche, 3 (78), март 2009.
Arche 80. Обращение председателя Рады народных министров БНР В. Ластовского в миссию БНР в Берлине, 21.01.9121. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 130, Л. 106.
Arche 84. Письмо советника миссии БНР в Берлине Д. Анекштейна
господам Соколову и Моцкину, 12.02.1921. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 130, Л. 96a.
Arche 85. Письмо советника миссии БНР в Берлине Д. Анекштейна господину Хазановичу, 14.02.1921. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 130, Л. 94a.
Arche 117. Письмо А. Боровского В. Ластовскому, 2.08.192. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 130, Лл. 13-15.
Arche 151. Письмо И. Лурье в чрезвычайную миссию БНР в Германии, 4.1.1921. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 184, Л. 7a.
Arche 159. Бюллетень белорусского пресс-бюро № 34, 26.08.1921. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 183, Лл. 179-180.
Arche 161. Бюллетень БНР № 35, сентябрь 1921. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 183, Л. 190.
Arche 188. Протокол от 31.01.1923 о ликвидации торгового соглашения между IWEG и белорусской торговой комиссией. = НАРБ, Ф. 325, Оп. 1, Д. 229, Л. 53.
Haynt 1921- Di pogromen in vaysrusland // Haynt, 13.09.1921, p. 4. Sentinel 1921a - White Russia gives ministerial post to well known Jew // The
Sentinel, 22.04.1921, p. 21. Sentinel 1921b - Says Budeny's cavalry responsible for pogroms // Sentinel. 16.09.1921, p. 34.
Tribune 1921 - Les droits des Juifs en Russie Blanche // La Tribune Juive, 10.06.1921 № 76, p. 6.
Литература
Будницкий 2005 - Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми. М: РОССПЭН, 2005. 551 с.
Будницкий, Полян 2013 - Будницкий О. В., Полян А. Русско-еврейский Берлин 1920-1941. М: Новое литературное обозрение, 2013. 496 с.
Герасимова 2000 - Герасимова И. Отношение правительства Белорусской Народной Республики к еврейским погромам в Беларуси. 1920-1921 гг. // Науковы записки. 2000. 10. С. 72-86.
Герасимова 2002 - Герасимова И. Белорусская проблема и еврейство
в деятельности Исаака Лурье - руководителя белорусского пресс-бюро в правительстве БНР в 1920-1922 гг. // Беларусь у XX стагоддз^ 2002. Вып. 1. С. 41-54.
Герасимова 2009 - Герасимова И. Идея еврейской автономии и БНР // Деды. Дайджест публикаций о беларуской истории. Вып. 13. Минск: Харвест, 2009. C. 70-80.
Милякова 2007 - Книга погромов: погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : Сб. документов / Отв. ред. Л.Б. Милякова, отв. сост.: Зюзина И.А. и др. М: РОССПЭН, 2007. 1032 с.
Пурышева 2009 - Пурышева Н. М. «Фактор БНР» в культурной политике БССР (начало 1920-х гг.) // Романовские чтения - 5. Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. С. 158-159.
Сакалоусю 2009 - Сакалоуст У. Надзвычайная м1сш БНР у Нямеччыне (1919-1925) // Arche. 2009. № 3. С. 7-328.
Тихомиров 2006 - Тихомиров А. Дипломатия БНР в период послевоенного обустройства Европы и польско-советской войны (ноябрь 1918 г. - март 1921 г.) // Цифровая библиотека LIBRARY.BY https://library.by/portalus/ modules/belarus/readme.php?subaction=showfull&id=1141338827 &archive=1291800676 (дата обращения: 25.10.2021).
Чернякевич 2018 - Чернякевич A. БНР: триумф побежденных. Минск: изд. А. Н. Янушкевич, 2018. 302 с.
Aberbach 1988 - Aberbach D. Bialik. London: Halban, 1988. 164 p.
Abramson 1999 - Abramson H. A Prayer for the Government. Ukrainians and Jews in Revolutionary Times 1917-1920. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1999. 255 p.
Adler-Rudel 1959 - Adler-Rudel S. Ostjuden in Deutschland 1880-1940. Tubingen, 1959. 170 p.
Bialik 1955 - Bialik H. N. Igrot el rayato Manyah [иврит]. Jerusalem: Mosad Byalik ve-Hevrat Dvir, 1955. 143 p.
Le Foll 2006 - Le Foll C. Histoire et représentation des Juifs en Biélorussie (1772-1918). Une identité collective en construction dans les marges occidentales de l'Empire russe?. Thèse de doctorat en Histoire et civilisations. Paris: École des hautes études en Sciences Sociales, 2006. 620 p.
Le Foll 2008 - Le Foll C. The "Belorussianisation" of the Jewish population during the interwar period: discourses and achievements in political and cultural spheres // East European Jewish Affairs. 2008. Vol. 38. No 1. P. 65-88.
Magosci 1996 - Magosci P. R. A History of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press, 1996. 896 p.
Maurer 1986 - Maurer T. Ostjuden in Deutschland: 1918-1933. Hamburg: Christians, 1986. 972 S.
Novina 1913 - Novina A. Vegn der natsionaler oyflebung fun di belorusen [идиш // Di yidishe velt. 1913. No 9. P. 86-99. No 10. P. 79-86.
Reinharz 1981 - Reinharz J. Dokumente zur Geschichte des deutschen Zionismus 1882-1933. Tübingen: Mohr, 1981. 580 S.
Rudling 2014 - Rudling P.A. The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906-1931. Pittsburgh: University of Pittsburgh press, 2014. 448 p.
Sahanovic 2011 - Sahanovic H. Zwischen Moskau und Warschau. Identitäten des weißrussischen Adels in der Frühen Neuzeit // Ein weißer Fleck in Europa... Die Imagination der Belarus als Kontaktzone zwischen Ost und West / Hg. Th. M. Bohn, V. Shadurski. Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. S. 107-115. (Histoire. Vol. 29).
Savchenko 2009 - Savchenko A. Belarus: a perpetual borderland. Leiden; Boston: Brill, 2009. 239 p.
Schlögel 1995 - Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941: Leben im europäischen Bürgerkrieg / Hg. K. Schlögel. Berlin: Akademie Verlag, 1995. 552 p. https://doi.org/10.1515/9783050071473.
Schlögel 1999 - Schlögel K. Chronik russischen Lebens in Deutschland
1918-1941 / Hg. Schlögel K., Kucher K., Suchy B., Thum G. Berlin, Boston: Akademie Verlag, 1999. 672 p. https://doi.org/10.1515/9783050075297.
Snyder 2003 - Snyder T. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. Yale: Yale University Press, 2003. 384 p.
Terpitz 2012 - Terpitz O. An enclave in time? Russian-Jewish Berlin revisited // The Russian Jewish diaspora and European culture 1917-1937 / Eds. J. Schulte, O. Tabachnikova, P. Wagstaff. Leiden; Boston: Brill, 2012. P. 179-199. (IJS Studies in Judaica. Vol. 13). Vakar 1956 - Vakar N. Belorussia. The making of a nation. A case study.
Cambridge: Harvard University Press, 1956. 300 p. https://doi.org/10.4159/ harvard.9780674436640.
Bialik's Belarusian passport - The Belarusian People's Republic and the Jews in 1921
Claire Le Foll
(Southampton, United Kingdom)
PhD, Associate Professor of History, Department of Arts and Humanities, University of Southampton
Director of the Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish relations, E-mail: c.le-foll@soton.ac.uk ORCID: 0000-0003-2261-6431
Abstract: Starting from a seemingly anecdotal detail - Bialik's Belarusian passport - this article explores a little known page of the Belarusian People's Republic history and of Jewish/non-Jewish relations in Eastern Europe, i.e. the rapprochement between Jewish and Belarusian political activists in Berlin in 1921, before and after the peace treaty of Riga. Using published and unpublished archival sources, the author reconstitutes the efforts of three Jewish officials of the BNR government - David Anekshtein, Isaac Lur'e and Samuil Zhitlovsky - to raise awareness of the Belarusian cause among Jewish, and particularly, Zionist circles in Berlin and in the West. The article explores the BNR government in exile's last attempt to secure statehood at a turning point in the history of the region through active cooperation with the Jewish community. It confirms the central role attributed to the Jewish nation in the Belarusian national project but also reveals the tensions and frustrations on both sides. While this cooperation failed to produce the expected outcome - BNR independence - it was crucial in shaping the BNR's response to the violent anti-Jewish pogroms during the summer 1921 and broadening the public knowledge about the Belarusian cause to various émigré circles in Berlin, as well as laid the basis for mutual political and cultural recognition in the BSSR.
Keywords: Belarus, BNR, Berlin, Emigration, S.Zhitlovski, I. Lur'e, D. Anekshtein, V. Lastousky, pogroms, Bialik, Zionism, Lithuania, S. Shneur.
DOI: 10.31168/2658-3364.2021.2.05
References
Bialik, H.N., 1955, Igrot el rayato Manyah. Jerusalem: Mosad Byalik ve-Hevrat Dvir, 143.
Budnickij, O.V., 2005, Rossijskie evrei mezhdu krasnymi i belymi [Russian Jews between Reds and Whites]. Moscow, ROSSPEN, 551.
Budnickij, O.V., Poljan, A., 2013, Russko-evrejskij Berlin 1920-1941 [Russian-Jewish Berlin 1920-1941]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 496.
Chernjakevich, A., 2018, BNR: triumf pobezhdennyh. [BNR: triumph of the defeated]. Minsk, izd. A. N. Janushkevich, 302.
Gerasimova, I., 2000, Otnoshenie pravitel'stva belorusskoj narodnoj respubliki k evrejskim pogromam v Belarusi. 1920-1921 gg. [The attitude of the government of the Belarusian people's republic to the Jewish pogroms in Belarus. 1920-1921]. Naukovy zapiski, 10, 72-86.
Gerasimova, I., 2002, Belorusskaja problema i evrejstvo v dejatel'nosti Isaaka Lur'e - rukovoditelja belorusskogo press-bjuro v pravitel'stve BNR v 19201922 gg. [The Belarusian Problem and Jewry in the Activities of Isaac Lurie, Head of the Belarusian Press Bureau in the Government of the Belarusian People's Republic in 1920-1922]. Belarus' u XXstagoddzi, 1, 41-54.
Gerasimova, I., 2009, Ideja evrejskoj avtonomii i BNR. [The idea of Jewish
autonomy and BNR]. Dedy. Dajdzhest publikacij o belaruskoj istorii, 13, Minsk, Harvest, 70-80.
Le Foll, C., 2006, Histoire et représentation des Juifs en Biélorussie (1772-1918). Une identité collective en construction dans les marges occidentales de l'Empire russe? [History and representation of the Juifs in Belarus (1772-1918). A collective identity under construction in the western margins of the Russian Empire?]. Thèse de doctorat en Histoire et civilisations. Paris: École des hautes études en Sciences Sociales.
Le Foll, C., 2008, The "Belorussianisation" of the Jewish population during the interwar period: discourses and achievements in political and cultural spheres. East European Jewish Affairs. Vol. 38. No 1. P. 65-88.
Magosci, P. R., 1996, A History of Ukraine. Toronto: University of Toronto Press, 896.
Maurer, T., 1986, Ostjuden in Deutschland: 1918-1933. [Eastern Jews in Germany: 1918-1933]. Hamburg: Christians, 972.
Miljakova, L. B., 2007, Kniga pogromov: pogromy na Ukraine, v Belorussii
i evropejskoj chasti Rossii v period Grazhdanskoj vojny, 1918-1922 gg. [Book of pogroms: pogroms in Ukraine, Belarus and the European part of Russia during the Civil War, 1918-1922]. Moscow, ROSSPEN, 1032.
Purysheva, N. M., 2009, «Faktor BNR» v kul'turnoj politike BSSR (nachalo 1920-h gg.). ["BNR factor" in the cultural policy of the BSSR (early 1920s)]. Romanovskie chtenija, 5. Mogilev, MGU, 158-159.
Reinharz, J., 1981, Dokumente zur Geschichte des deutschen Zionismus 1882-1933. [Documents on the History of German Zionism 1882-1933]. Tübingen: Mohr, 580.
Rudling, P.A., 2014, The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906-1931. Pittsburgh: University of Pittsburgh press, 448.
Sahanovic, H., 2011, Zwischen Moskau und Warschau. Identitäten des
weißrussischen Adels in der Frühen Neuzeit. [Between Moscow and Warsaw. Identities of the Belarussian nobility in the early modern period]. Ein weißer Fleck in Europa... Die Imagination der Belarus als Kontaktzone zwischen Ost und West. [A white spot in Europe ... The imagination of Belarus as a contact zone between East and West]. Hg. Th. M. Bohn, V. Shadurski. Bielefeld: transcript Verlag. S. 107-115. (Histoire. Vol. 29).
Sakalouski, U., 2009, Nadzvychajnaja misija BNR u Njamechchyne (1919-1925). [Emergency mission of the BNR in Germany (1919-1925)]. Arche, 3, 7-328.
Savchenko, A., 2009, Belarus: a perpetual borderland. Leiden; Boston: Brill, 239.
Schlögel, K., 1995, Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941: Leben im europäischen Bürgerkrieg. [Russian emigration to Germany 1918 to 1941: Life in the European Civil War]. Berlin: Akademie Verlag, 552. https://doi. org/10.1515/9783050071473.
Schlögel, K., 1999, Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941.
[Chronicle of Russian life in Germany 1918-1941]. Berlin: Akademie Verlag, 672. https://doi.org/10.1515/9783050075297.
Snyder, T., 2003, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. Yale: Yale University Press, 384.
Terpitz, O., 2012, An enclave in time? Russian-Jewish Berlin revisited. The Russian Jewish diaspora and European culture 1917-1937. Eds. J. Schulte, O. Tabachnikova, P. Wagstaff. Leiden; Boston: Brill. P. 179-199. (IJS Studies in Judaica. Vol. 13).
Tihomirov, A., 2006, Diplomatija BNR v period poslevoennogo obustrojstva Evropy i pol'sko-sovetskoj vojny (nojabr' 1918 g. - mart 1921 g.). [Diplomacy of the BNR during the postwar development of Europe and the Polish-Soviet war (November 1918 - March 1921).]. Cifrovaja biblioteka LIBRARY.BY https:// library.by/portalus/modules/belarus/readme.php?subaction=showfull& id=1141338827&archive=1291800676 (data obrashhenija: 25.10.2021).
Vakar, N., 1956, Belorussia. The making of a nation. A case study. Cambridge: Harvard University Press, 300. https://doi.org/10.4159/ harvard.9780674436640.





 CC BY
CC BY 48
48