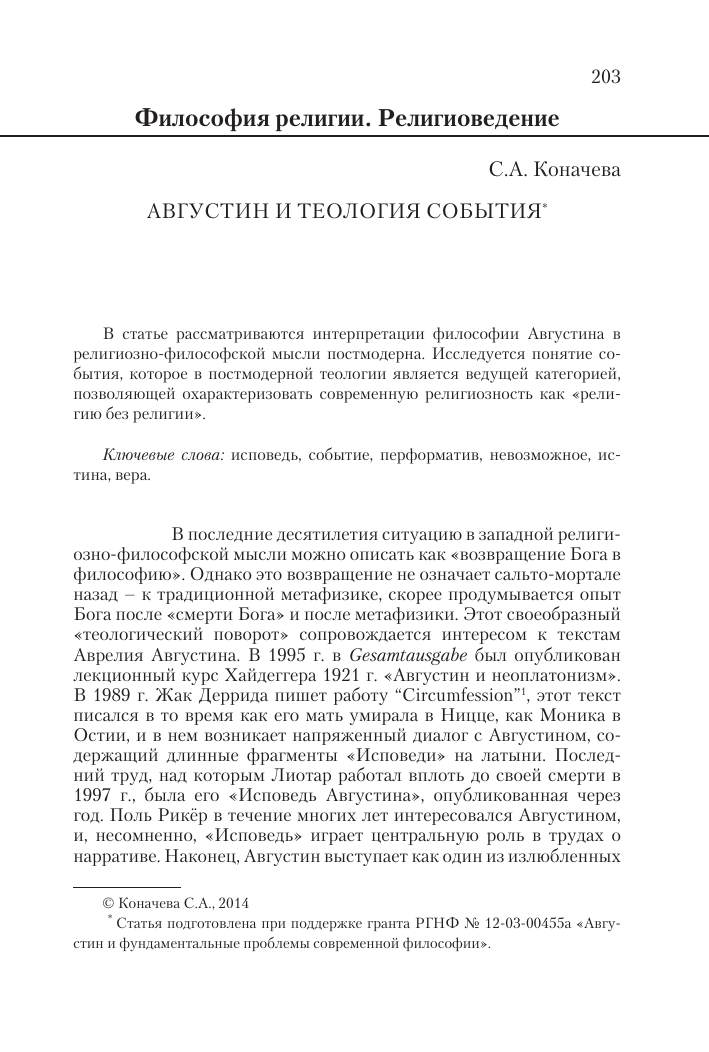Философия религии. Религиоведение
С.А. Коначева АВГУСТИН И ТЕОЛОГИЯ СОБЫТИЯ*
В статье рассматриваются интерпретации философии Августина в религиозно-философской мысли постмодерна. Исследуется понятие события, которое в постмодерной теологии является ведущей категорией, позволяющей охарактеризовать современную религиозность как «религию без религии».
Ключевые слова: исповедь, событие, перформатив, невозможное, истина, вера.
В последние десятилетия ситуацию в западной религиозно-философской мысли можно описать как «возвращение Бога в философию». Однако это возвращение не означает сальто-мортале назад - к традиционной метафизике, скорее продумывается опыт Бога после «смерти Бога» и после метафизики. Этот своеобразный «теологический поворот» сопровождается интересом к текстам Аврелия Августина. В 1995 г. в Gesamtausgabe был опубликован лекционный курс Хайдеггера 1921 г. «Августин и неоплатонизм». В 1989 г. Жак Деррида пишет работу "Circumfession"1, этот текст писался в то время как его мать умирала в Ницце, как Моника в Остии, и в нем возникает напряженный диалог с Августином, содержащий длинные фрагменты «Исповеди» на латыни. Последний труд, над которым Лиотар работал вплоть до своей смерти в 1997 г., была его «Исповедь Августина», опубликованная через год. Поль Рикёр в течение многих лет интересовался Августином, и, несомненно, «Исповедь» играет центральную роль в трудах о нарративе. Наконец, Августин выступает как один из излюбленных
© Коначева С.А., 2014
* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 12-03-00455а «Августин и фундаментальные проблемы современной философии».
собеседников Джона Капуто в его попытках разработать теологию события. Искания Августина, лежащие в начале формирования традиции метафизической теологии, предстают одновременно как философские и библейские, неоплатонические и предельно личные, метафизические и глубоко укорененные в динамике пред-философского опыта. Современным мыслителем делает Августина прежде всего его страстная феноменология беспокойной любви человеческого сердца к Богу. Потому неудивительно, что «Исповедь» так привлекала внимание Хайдеггера, Деррида и Капуто.
В "Circumfession" Деррида прежде всего стремится освободить исповедь от контроля понятия истины и перейти к мышлению события: в исповеди, уже у Августина, говорит Деррида, что-то arrive à Dieu, что-то достигает Бога, и в этом прибытии что-то происходит с Богом так, что Бог (независимо от того, кто или что находится в положении Бога, которому адресована исповедь), всегда уже все знающий, об этом точно не знал, или, возможно, зная это все время, все еще удивлен этим прибытием или событием, которое сотрясает основания господства истины. Именно свершающееся в событии исповеди или признания, что делает его всегда чем-то большим, чем просто констатацией истины, и становится основной темой "Circumfession". Деррида стремится произвести саму возможность будущего, прошлого и настоящего события. В 2001 г. в Университете Виланова состоялась конференция «Религия и постмодернизм 3. Исповедь», на которой обсуждались постмодернистские стратегии чтения Августина. В своем выступлении на этой конференции Деррида признал, что его чтение Августина - своего рода намеренное неправильное чтение, он отправляет Августина в путешествие, которое тот вряд ли бы предпринял, и все это в надежде на то, что будет произведено событие. Он отмечает, что во время написания "Circumfession" он считал, что производство события означает, что его текст будет «перформативным», выполненным в рамках деконструкции производством события трансгрессии. Но в дальнейшем он пришел к заключению, что обычный перформатив фактически нейтрализует событие, поскольку оно оказывается связанным конституирующими его конвенциями. Я созидаю правду, призывая конвенции, и тем самым «я нейтрализую событийность события именно в силу перформативности»2. Но более радикальное событие свободно от этих конвенциональных условий и также не зависит от любого совершенного мной действия, поскольку я не могу произвести событие, а события не являются субъектами эгологи-ческих команд. Скорее я выступаю как подлежащий субъект события, подчиненный ему, а не его субъект-автор. Это более радикаль-
ное событие Деррида называет «первер-формативом». Событие непредсказуемо и приходит поверх меня. Не случайно само название работы отсылает к обрезанию, которое совершается над беззащитным младенцем, хочет он этого или нет. Событие должно посетить субъекта, и только в этом случае оно - а не я - созиждет истину. Например, когда мы просим прощения или исповедуемся - это не вопрос истины, по крайней мере, не констатация факта. Исповедь предполагает не просто признание, но деятельное раскаяние, преобразование ненависти в любовь. Поэтому для Деррида речь идет не о знании и «не о том, чтобы заставить другого узнать, что произошло, но об изменении себя, собственном преобразовании»3. По его мнению, именно это Августин называет "facere veritatem": не говорить правду, не информировать, ведь Бог знает все, но созидать, производить истину. Созидание истины как события предполагает, что истина ниспадает на меня, посещает меня. Таким образом, Деррида отличает относительное гостеприимство приглашения, когда я приглашаю предварительно отобранную группу гостей, от абсолютного гостеприимства посещения, когда меня посещают незваные и непредвиденные гости. Такое непредвиденное посещение описано в "С1гсит£е88юп" не как исповедание события, которое было бы интенциональным актом с моей стороны, но как событие исповедания, которое настигает меня. Абсолютное гостеприимство подразумевает, что неожиданный посетитель может прибыть без всяких условий. Условием события оказывается сама внезапность визита, вторжение, которое иногда случается вне горизонта. Здесь Деррида ставит под сомнение аксиоматическое положение феноменологии, онтологии и герменевтики о горизонте экспектаций: я вижу приходящего другого; я вижу прибывающее событие, я это предвижу. Он полагает, что всякий раз, когда есть такой горизонт экспектаций, ничто не «происходит в этом строгом и чистом значении события»4. Для того чтобы что-то произошло, оно должно остаться непредсказуемым, то есть не должно прибывать из горизонта. Событие - это предел предела - потому что горизонт на греческом языке означает «предел» - предел горизонтального предела, то есть того, что приходит ко мне, оказывается передо мной. Структуры события разрушают темпоральность, линейную или нелинейную последовательность «сейчас», где у нас есть горизонт будущего, приходящего, следующее «теперь», приходящее теперь. Исповедь как событие прерывает такой временной горизонт.
Когда просят прощения и исповедуются, не знают для чего и перед кем. Если есть «нечто» или «некто» в качестве идентифицируемых объектов и субъектов, тогда ничего не происходит, ни испове-
ди, ни просьбы о прощении. Более того, структура исповеди такова, что я никогда не исповедую себя самого. В исповеди я не уверен в том, что Я - тот, кто может требовать ответственности за то, что было сделано. Тот, кто исповедуется, это «всегда другой во мне»5. Для Деррида это означает, что решение всегда пассивно и всегда решение другого. Подобную пассивность решения очень трудно принять, он даже называет свое понимание пассивного решения скандалом в философии. Для того чтобы осуществилось решение, должна прерваться континуальность времени, кто-то должен прервать во мне мою собственную континуальность. Это означает, что исповедь - это не акт автономного автора, а скорее раскаяние в автономии. Радикальная исповедь никогда не «моя», но решение Другого во мне, того, кто приходит поверх меня - Тебя во мне -так же, как в «Исповеди», Бог - это тот, кто переворачивает жизнь Августина, сам же автор - лишь тот, кто отвечает. В подобной исповеди нет телеологии, стремления к примирению или искуплению, иначе она превращается в терапию. Исповедь бессмысленнаЛ так же как прощение, которое перестает быть таковым, если мы прощаем, чтобы примириться с другим или сделать жизнь в обществе легче. Однако то, что именно другой во мне - это тот, кто решает и исповедует, не исключает моей ответственности: «я остаюсь ответственным, несмотря на тот факт, что другой - это тот, кто исповедуется, кому я исповедуюсь или кто исповедуется во мне, и кто решает во мне»6.
Еще одна сквозная тема "Circumfession" - опыт молитвы и слез как секретного источника «всего»:
Если я должен сказать им, что молюсь и описываю, как это могло произойти, в соответствии с какой идиомой, и каким обрядом, на коленях или стоя, перед кем и по какой книге, если бы ты знал, G., мой опыт молитв, ты знал бы все7.
Однако место назначения его молитв держится в секрете от его читателей, потому что это, прежде всего, скрыто от него самого. Поэтому в "Circumfession" настойчиво повторяется августиновский вопрос: «Что я люблю, когда я люблю своего Бога?» Трудности, которые возникают при ответе на этот вопрос, описаны уже в первой книге «Исповеди». Осознавая себя как человека, который «носит с собой повсюду смертность свою», Августин говорит, что эта крошечная частица созданий все-таки хочет «славословить Тебя»8. Но душа должна узнать, «начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе, или с того, чтобы славословить Тебя; надо ли сначала познать Тебя, или
воззвать к Тебе»9. Августин спрашивает: «Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому может незнающий. Или, чтобы познать Тебя, и надо воззвать к Тебе?»10 Для Деррида эти начальные строки «Исповеди» обозначают стремление к пути не-знания, воззвания без знания, моления без истины. Этот путь, который Деррида в другом месте называет «страсть незнания», определяет основную стратегию "Circumfession". Августину важно показать, что для познания чего-либо нам прежде необходимо это любить. Если так, можно согласиться с Капуто, назвавшим Деррида «квазиавгустинцем»; для Деррида любовь и воззвание предшествуют знанию, так что молитва "Circumfession" становится молитвой «без истины», когда мы проливаем слезы вне бытия. Это означает, что он взывает к Богу, который не принадлежит порядку бытия, истины и знания, направляет молитву к Богу, который не имеет никакого отношения к знанию или незнанию. К Богу взывают в молитвах и слезах, которые явлены не в порядке бытия, или сокрытия и несокрытия, потаенности и проявления, знания и незнания. Взывать к имени Бога означает ввести совершенно иной порядок, чем история истины, принадлежать истории, в которой проливается кровь и слезы. После выхода в свет поздних работ Деррида довольно часто обсуждался вопрос о сходстве и различии его способа мысли и путей негативной теологии. Наиболее корректной представляется здесь интерпретация Капуто, утверждавшего, что оба пути конституированы движением молитвы, но у молитвы негативной теологии есть определенное и идентифицируемое место назначения - Бог, где имя Бога - постоянное историческое и библейское имя, которое было передано нам через Священное Писание и традицию. Это имя, одновременно неименуемое и всеименное, как говорит Майстер Экхарт, содержит в себе совершенство каждого имени, и тем самым, возвышая каждое имя и выходя за его пределы, мы находим путь к Богу. Бог негативной теологии не просто неведом, теолог, опирающийся на историческую веру, знает, к кому она направляет свои молитвы. Мы знаем, что Бог, которому мы молимся, это Бог Авраама, Исаака и Иакова, и мы знаем, что никогда не можем знать этого Бога. Но мы знаем, что этот Бог, которого мы не постигаем, ближе нам, чем мы сами, и мы знаем, что если нечто познано, это не может быть Богом, которого мы постигаем.
В работах Деррида имя Бога скорее подобно пустыне, оно радикально подвижнее, чем Бог отрицательной или мистической теологии. Его молитва, не менее фактичная, не менее реальная, не менее серьезная и сердечная, не менее полная слез, осуществляется не в
пределах знания и бытия, в пространстве, где проливаются слезы вне и без бытия, где само различие между знанием и незнанием лишено дара речи. Молитва Деррида гораздо менее определенна, место ее назначения не может быть идентифицировано с каким-либо историческим именем Бога, переданным нам авраамическими религиями. Но подобная неопределенность не подрывает молитву, а иногда даже усиливает ее, ведет ее радикальным и беспокойным путем, это молитва странника пустыни, отделенная от порядка истины. Он не способен идентифицировать себя с определенным историческим сообществом веры, с фиксированной текстовой и институциональной традицией веры. Молитва Деррида всегда содержит определенный иронический оттенок, он сохраняет ироническую дистанцию от имени Бога, потому что имя Бога для него бесконечно переводимо, «постоянство имени Бога» выступает для него под многими именами. Но в то же время и по той же самой причине оно всегда погружено в кровь и слезы экзистенции.
Тем самым значение имени Бога в деконструкции Деррида не сводится к решению, принимаемому в порядке бытия или знания, к суждению о существовании Бога; его значение перемещено из круга знания и незнания, сокрытия и несокрытия, бытия и небытия, и локализовано в «логике или топике», которая обнаруживается иначе, чем знание - в сфере слез вне бытия. Это порядок сердца, крови, веры, а не истинностных суждений; порядок не знания, а свершения истины; порядок события, а не вещей. Его значение не номинативно, но призывно и провокационно, поскольку нечто свершается.
Августин становится ключевым собеседником и для американского теолога Джона Капуто в его размышлениях о «религии без религии». Продумывая значение слова «религия» в постмодерную эпоху, когда оно практически утеряло определенный сингулярный смысл, он предлагает на первый взгляд простое и старомодное определение: религия - это любовь Бога. Однако это простое определение, чтобы не остаться пустым и ханжеским, нуждается в серьезной проработке. И здесь Капуто, как и Деррида, обращается к августиновскому вопросу: «Что я люблю, когда я люблю своего Бога?»11. Любовь понимается как мера, поверяющая все исторические, темпоральные структуры человеческой жизнедеятельности, и особенно религии, в их исторической институциональной форме. При этом мерой самой любви в полном соответствии с Августином может быть только любовь без меры. Понимание любви как полноты самоотдачи, превышение всех обязательств12, ведет нас к вопросу о любящем Боге. Если понятия Бога и любви идут рука об руку, Новый Завет говорит нам «Бог есть любовь», то тезис «любовь есть
Бог» воспринимается в христианской мысли как провокация. Капуто ставит в центр своих размышлений именно провокативную амбивалентность этих понятий, бесконечную заместимость и пе-реводимость между «любовью» и «Богом». Понятие «любящего Бога» проясняется через категорию невозможного. С Богом все возможно, возможны совершенно удивительные вещи, даже те вещи, которые мы называем невероятными. Возможное тесно связано с будущим, которое Капуто описывает в двух планах. «Будущее настоящего» мы можем планировать, его приход мы в той или иной степени можем увидеть. Иной род будущего - «абсолютное будущее» - совершенно непредсказуемо, оно приходит «как вор в ночи» (1 Фес 5:2) и разрушает комфортный горизонт ожиданий относительного будущего. «Абсолютное» будущее выдвигает нас к пределам возможного, по ту сторону наших полномочий и потенциальных возможностей, помещает нас в точку, где действуют только вера, любовь и надежда. Капуто утверждает, что с «абсолютным будущим мы впервые ступаем на берег "религиозного", входим в сферу религиозной страсти, и наталкиваемся на отчетливо "религиозную категорию"»13. Речь при этом идет не о вторжении некой сверхприродной реальности, но о религиозном смысле нашей жизни, о пребывании в пространстве непредсказуемого, где независимо от конфессиональной религиозности мы перестаем полагаться на собственные силы, перестаем воспринимать себя как мастеров и виртуозов и вступаем в terra incognita.
Однако это не просто абсолютно невозможное, Капуто вслед за Жаком Деррида именует его "the impossible", употребляет определенный артикль, имея в виду нечто, чью возможность мы не можем предвидеть, что не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку (1 Кор 2:9). Невозможное, понятое как религиозная категория, определяет мышление о Боге как мышление возможности невозможного, как «становление невозможного возможным». Имя Бога становится именованием «шанса для чего-то абсолютно нового, для второго рождения, для ожидания, надежды, надежды сверх надежды (Рим 4:18) в преображенном будущем»14. Невозможное делает опыт действительно достойным имени «опыт», когда действительно что-то «происходит», в противовес регулярному однообразию жизни. Невозможное тем самым становится условием любого реального опыта, придавая ему смысл и остроту, и если невозможное является определяющей религиозной категорией, любой опыт как событийный опыт имеет религиозный характер, независимо от нашей принадлежности к конкретному религиозному сообществу и участию в религиозном культе. Подоб-
ное переживание жизни на пределе возможного и на грани невозможного составляет религиозную структуру, религиозную сторону существования каждого из нас, и именно это Капуто называет «религией без религии». Он провокативно заявляет, что религия - для сумасшедших (т. е. для любящих). Религиозный смысл жизни пробуждается, когда мы лишаемся основ и уверенности, сталкиваясь с тем, что сбивает нас с толку, будучи совершенно невозможным перед лицом наших ограниченных возможностей. Религиозный смысл появляется, когда мы оказываемся в пространстве, где вещи не подчиняются нашему знанию или нашей воле, мы ими не распоряжаемся. Это сфера Бога, элемент невозможного, который превышает наши возможности схватывания. Здесь вещи постоянно в движении, они существуют вне наших планов, здесь вступает в игру будущее, которое мы не видим, возникает нечто ускользающее и тем не менее притягивающее нас, нечто, о чем мы молимся и плачем. Мы начинаем терять собственную власть и оказываемся во власти чего-то, уносящего нас в неизвестность. Подобный опыт может рассматриваться как трансформативная практика: «мы затронуты, ранены, приведены в движение невозможным»15.
Тем самым религия в понимании Капуто - это завет с невозможным. Традиционно религиозный смысл жизни под влиянием христианского платонизма продумывался с точки зрения вечности, постмодерная теология, напротив, стремится заново продумать его из перспективы времени, как темпоральный способ бытия. Говоря о религиозном смысле события, Капуто пытается подчеркнуть в нем нечто решающее, что является безоговорочной страстью или страстью к безусловному, порождающему событие. В такой теологии имя Бога - это «имя события <...>, некой священной искры или пламени»16. Утверждение события имеет мало общего с решением и деятельностью субъекта, оно предстает не как деятельность, но как восприимчивость, отклик субъекта на посещение настигшего его неведомого. Утвердить имя Бога означает в этом контексте сказать «да» силам, которые прокладывают себе путь через это имя и затрагивают наши сердца. Поскольку событие взывает к нам, мы осознаем самих себя как людей призвания, людей события, которые хотят сделать себя достойными зова.
Капуто подчеркивает, что ведущая линия «Исповеди» Августина «не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»17. Беспокойство ведет нас все дальше и дальше, одно желание следует за другим, и мы не обретаем мир, пока мы не отдохнем в Боге. Тогда подлинный вопрос теологии: «что я люблю, когда я люблю Тебя, моего Бога?». Описывая эту любовь как беспокойный по-
иск, как желание поверх всякого желания, как устремленность к невозможному, Августин жаждет понять, куда направлена его любовь. Капуто полагает, что, следуя этому вопросу, мы оказываемся в круге новых вопрошаний, нервирующих любого представителя официальной церкви. Какое из имен - Бог или любовь - является изначальным, а какое иллюстрирующим примером? Сам Капуто предпочитает оставить вопрос открытым и акцентировать внимание не на водоразделе, проходящем между теистом и атеистом, религиозным и секулярным, а на разных способах существования. Вспоминая слова Иисуса, обращенные к ученикам: «Вы - соль земли», он метафорически обозначает эти пути как пресный, описанный близко к хайдеггеровскому неподлинному существованию, и соленый, охарактеризованный как религиозная страсть, путь любви к Богу, с которым ничто не будет невозможным. Тем самым ав-густиновский вопрос призван постоянно сопровождать человеческую жизнь, придавая ей соль и огонь, тем более если учесть, что у Августина он тесно переплетен с вопросом: «Кто я?» Когда мы признаемся, что не знаем, что мы любим, когда мы любим нашего Бога, мы «также признаемся, что мы не знаем, кто мы, те, кто любит нашего Бога»18. Наше собственное существование и оказывается постоянным вопросом: «Что я люблю, когда я люблю своего Бога? Это Бог? Это справедливость? Это сама любовь?», когда каждый ответ становится новым вопросом. Капуто сомневается, что может быть нечто, названное последним и окончательным «Ответом» на этот вопрос; единственная вещь, которую мы можем сделать, состоит в том, чтобы отвечать. Здесь предельно важно именно отозваться, принять ответственность, чтобы соделать истину, сделать невозможное, даже если я не знаю, кто я или что я люблю, когда я люблю своего Бога. Тем самым по-настоящему религиозная идея «истины» и истинная идея «религии» включает беспокойство о самом себе и о том, что мы любим, позволение себе быть обеспокоенным невозможным. Для Августина «Бог» не был теоретической или объясняющей гипотезой, но тем, кто радикально преобразовал его жизнь. Уникальность Августина, по мнению Капуто, состоит в том, что его вопрос о любви рождается в недрах самой любви, он пытается понять то, что он уже любит, значит, именно любовь ведет наш познавательный поиск.
Таким образом, из интерпретации Августина, предложенной в мысли постмодерна, возникают очертания новой религиозности, которая не отвергает традиционную конфессиональную веру, но будоражит ее радикальным незнанием, верой без веры. Подобная вера соопределена неверием (в смысле новозаветной молитвы:
«Верую Господи, помоги моему неверию», Мк 9:24), и поэтому это вера, а не знание. Такая бесконечно открытая и ничем не детерминированная любовь не разрывает с традицией, поскольку вне конкретных исторических форм религия превращается в бескровную абстракцию. Скорее постмодерная «религия без религии» предполагает скольжение назад и вперед, при котором мы одновременно отдаем дань тайне пустыни и ищем гостеприимства нашей традиции и культуры. В такой религии Бог - это бесконечно переводимое имя того, что мы любим, жаждем, к чему мы страстно стремимся, по ту сторону всех желаний и устремлений.
Примечания
1 В названии объединены два слова: обрезание (circumcision) и исповедь (confession).
2 DerridaJ. Composing "Circumfession" // Augustine and postmodernism: confessions and circumfession / J. Caputo, M.J. Scanlon (eds.). Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2005. P. 21.
3 Ibid. P. 23.
4 Ibid.
5 Ibid. P. 25.
6 Ibid.
7 Derrida J. Circumfession. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. P. 188.
8 Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеенко. М.: Ренессанс, 1991. С. 53.
9 Там же.
10 Там же.
11 Caputo J. On Religion. L.; N. Y.: Routledge, 2001. Р. 2.
12 Ср.: ап. Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует <...>, не ищет своего <...>, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13:4-7).
13 Caputo J. On Religion. Р. 8.
14 Ibid. P. 11.
15 Ibid. P. 14.
16 Caputo J. Spectral Hermeneutics // Caputo J.D., Vattimo G. After the Death of God. N. Y.: Columbia University Press, 2007. P. 53.
17 Августин А. Указ. соч. С. 53.
18 Caputo J. On Religion. Р. 27.





 CC BY-NC-ND
CC BY-NC-ND 130
130