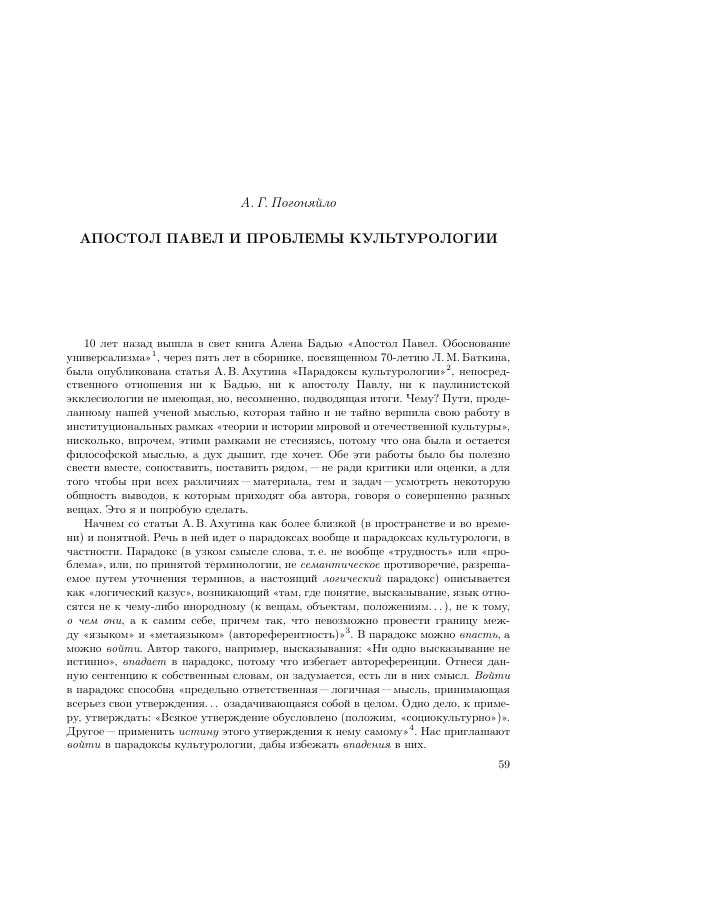А. Г. Погоняйло
АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ
10 лет назад вышла в свет книга Алена Бадью «Апостол Павел. Обоснование универсализма»1, через пять лет в сборнике, посвященном 70-летию Л. М. Баткина, была опубликована статья А. В.Ахутина «Парадоксы культурологии»2, непосредственного отношения ни к Бадью, ни к апостолу Павлу, ни к паулинистской экклесиологии не имеющая, но, несомненно, подводящая итоги. Чему? Пути, проделанному нашей ученой мыслью, которая тайно и не тайно вершила свою работу в институциональных рамках «теории и истории мировой и отечественной культуры», нисколько, впрочем, этими рамками не стесняясь, потому что она была и остается философской мыслью, а дух дышит, где хочет. Обе эти работы было бы полезно свести вместе, сопоставить, поставить рядом, — не ради критики или оценки, а для того чтобы при всех различиях — материала, тем и задач — усмотреть некоторую общность выводов, к которым приходят оба автора, говоря о совершенно разных вещах. Это я и попробую сделать.
Начнем со статьи А. В.Ахутина как более близкой (в пространстве и во времени) и понятной. Речь в ней идет о парадоксах вообще и парадоксах культурологи, в частности. Парадокс (в узком смысле слова, т. е. не вообще «трудность» или «проблема», или, по принятой терминологии, не семантическое противоречие, разрешаемое путем уточнения терминов, а настоящий логический парадокс) описывается как «логический казус», возникающий «там, где понятие, высказывание, язык относятся не к чему-либо инородному (к вещам, объектам, положениям...), не к тому, о чем они, а к самим себе, причем так, что невозможно провести границу между «языком» и «метаязыком» (автореферентность)»3. В парадокс можно впасть, а можно войти. Автор такого, например, высказывания: «Ни одно высказывание не истинно», впадает в парадокс, потому что избегает автореференции. Отнеся данную сентенцию к собственным словам, он задумается, есть ли в них смысл. Войти в парадокс способна «предельно ответственная — логичная — мысль, принимающая всерьез свои утверждения... озадачивающаяся собой в целом. Одно дело, к примеру, утверждать: «Всякое утверждение обусловлено (положим, «социокультурно»)». Другое — применить истину этого утверждения к нему самому»4. Нас приглашают войти в парадоксы культурологии, дабы избежать впадения в них.
Действительно, попытаемся отнести к себе утверждение о том, что всякое утверждение социокультурно обусловлено. Назовем совокупность социокультурных условий, обусловливающих наши высказывания, языком культуры. Говоря об обусловленности наших высказываний социокультурным контекстом, или языком культуры, мы обращаем на него, этот контекст, наше внимание. Он, таким образом, перестает быть только «контекстом» высказывания, отчасти попадает в его «текст» и тем самым, вроде бы, перестает его тотально обусловливать именно по причине частичной осознанности. Но мы согласились с тем, что всякое наше высказывание обусловлено социокультурным контекстом. Значит, мы согласились с тем, что никогда весь контекст наших высказываний не станет текстом, иными словами, мы сможем разговаривать лишь при том условии, что значительная часть социокультурных условий нашего общения по-прежнему останется для нас за кадром и будет продолжать обусловливать наши высказывания, хотя множество наших усилий при этом будет затрачено именно на то, чтобы «ввести их в кадр», ибо только оно, такое введение в кадр условий общения, и обеспечивает в конечном счете его, общения, возможность — возможность сказать что-либо существенное. Получается парадокс: владея языком нашей культуры, т. е. являясь его носителями, мы им не владеем. Или так: не столько мы владеем им, сколько он владеет нами. Или иначе: все, что мы говорим на «родном» языке своей культуры, говорим не мы, а он через нас или с нашей помощью; овладеваем же мы языком своей культуры в той мере, в которой отчуждаемся 5 от него. Эти выводы относительно языка вообще — отнюдь не новость. Давно известно, что объективация кода, или принципа организации какой-либо системы невозможна без выхода за рамки этой системы: код не заметен «изнутри» целого, целостность которого (его системный характер: части лица, а не части золота) он и обеспечивает. Это так называемый системный парадокс (парадоксы). В качестве парадокса семиотического его можно сформулировать так: знаковая ситуация (наличие смысла) обеспечивается общностью (единством) языка, но как таковая она требует выхода за его рамки, т. е. всякая речь полиглотична в принципе. Коль скоро культуро-логия призвана заниматься не чем иным, как логосами культуры, или ее закономерностями, смыслами и т.д., а под «культурой» ныне6 понимают совокупный способ и продукт человеческой деятельности, наука эта чревата парадоксами и постоянно их воспроизводит. Таким образом, главной проблемой культурологии оказывается сама культурология, и только вводящая в парадокс автореференция может уберечь культуролога от впадения в него. Как справедливо замечает А. В. Ахутин, «... само имя культуро-логия именует сгусток глубинных конфликтов мысли», они таятся в самом ее замысле и располагают к «бегству от парадокса»7. Таких свойственных культурологии способов убежать от парадокса (=впасть в него) он условно выделяет три и подробно разбирает их в своей статье: (1) парадокс науки о культуре, (2) парадокс герменевтики культуры и (3) парадокс общения культур. Первый заключается в том, что для культурологии понять многообразие существующих культур — значит снять их в однородной сущности. Культуролог убегает от парадокса в метапозицию. Парадокс герменевтики культуры: постижение «Культуры» требует отказа от ее превращения в объект, уловления самой ее непонятности. И, наконец, «“Логос” взаимо-понимающего общения “Культур” противоречит — уже не только на словах, но и на самом деле — культурологическому познанию... »8.
Но откуда вообще взялась эта самая (такая-сякая) культурология, претендующая на глобальный охват человеческой реальности и в этом смысле оказывающаяся чуть ли не главной из наук о человеке? Она сама — порождение парадокса, назван-
ного в статье эпохальным. Эпохальный парадокс — характеристика ситуации меж-думирия. XX век был границей Нового времени, рубежом между Modern Times и Post-Modern Times. По привычке, пишет А. В. Ахутин, этот рубеж осознается как одновекторный переход, перевал в прогрессивном историческом движении. Речь, однако, идет не просто об эпохальном рубеже, но о болезненном переживании самой рубежности, об обостренном внимании «к тому, что приоткрывается на рубежах, на стыках смысловых миров»9, когда орто-доксальная мысль эпохи приходит в «онтологическое смущение», опять же впадает в парадокс, обнаруживая «“предмет”, противоречащий ее идее предметности, понятности, правильности... »10.
Не хотелось бы сбиваться на пересказ статьи, но придется подробнее сказать о трех способах бегства от парадокса. Разумеется, я излагаю их по-своему.
1. Бегство в метапозицию. Иллюстрация — шпенглеровская культурология. Ее замысел — распространение на историю «коперниканского переворота», сделавшего возможным современное естествознание. Переворот состоял в достижении нужной дистанции от природы — удалении наблюдателя на бесконечное от нее расстояние и обозрении ее «оком бога». Того же, по мнению Шпенглера, требует и «фаустовский стиль» от историка. Но что же происходит на самом деле, спрашивает А. В. Ахутин, отстраняемся ли мы от нашей «фаустовской» души (культуры), как того требует «обозрение оком бога», или, наоборот, «окончательно распространяем наше картезианское фаустианство на всю историю»11. Но почему тогда всякая культура должна адекватно раскрываться этому «взгляду», если он связан со вполне определенной историко-культурной ситуацией, особенности которой продиктованы разделением «сущего» (всего, что ни есть) на объект и субъект, res extensa и res cogitans, отчего и науки в Новое время разделились на «естественные» (физико-математическое естествознание) и «гуманитарные» (науки о духе)? В самом деле, мы никогда не поймем, что пишут о природе античные и средневековые авторы, если будем понимать природу по-новоевропейски (как мы ее и понимаем). И то, что первоначальное, или, как выражаются, «наивно-механистическое» отношение к природе (на самом деле очень далекое от наивности) было, вроде бы, впоследствии преодолено, ничего не меняет по сути дела, так как в любой науке критерием научности, т. е. истинности и верифицируемости получаемого знания, по сю пору остается способность выделить и описать механизм того или иного явления (социологического, психологического и т. д.). А это означает редукцию явления к механизму, вполне, впрочем, осознанную. Другое дело, что в гуманитарных науках, в частности, в культурологии, такое понимание научности приводит к парадоксам, поскольку из изучаемых явлений механистическая редукция изымает как раз то, что и составляет главный предмет интереса этих наук — например, то, что Кант назвал «свободной причинностью». Дух новоевропейской науки может учреждать свой особый «гуманитарный предмет» в виде «души», «жизни» или той же «культуры», «духовности» или чего-то еще, но в основе своей он все равно останется естественнонаучным духом.
2. Герменевтический парадокс. Если научный логос наук о духе относит к себе требование историчности, он смиряется, положим, до «ментальности», утрачивая «вселенскую широту взгляда». Но ведь «ментальности», «души» культур, «моделирующие системы» взаимно непроницаемы12. Правда, живущему в определенных условиях и обусловленному этими условиями человеку всегда неймется, ему всегда есть дело до «бытия вообще», всеобщего «смысла жизни» и т. д. «Обитание в мире приобретает значимость исторического события каждый раз, когда происходит будто раз и навсегда, в мета-историческом горизонте... именно вселенский, мета-
исторический размах “локального” внимания есть условие бытия в историческом мире (иначе мы выпадаем в мир квазибиологический)»13. Но именно этот универсалистский размах и превращал, как мы видели, другие «ментальности» в ступени восхождения к ... нашей собственной (к образу мыслей думающего об этом мыслителя). Существует, однако, способ разорвать этот логический круг, превратив его в круг герменевтический. В круг дильтеевского «понимающего переживания», или «понимающей себя жизни». «Понимание»—не замкнутая в себе «ментальность». Оно «озадачено собой и открыто»14. С другой стороны, оно имманентно жизни. Сама жизнь как пере-живание, собирает себя в целое смысла. А смысл, обращает внимание читателя А. В. Ахутин, — это не факт, «поскольку имеет характер горизонта, его присутствие дразняще и провокативно: это вызывающее отсутствие, пустота, требующая восполнения15. Понимание фактично, но смысл —не факт, а перспектива. Тем не менее и в этой «мирной герменевтике понимающей себя жизни» скрыт «парадокс радикальной само-несовместимости». Парадокс в том (и тут нужна цитата, поскольку место это не очень понятное), что «всякое отнесение жизнью себя к себе в целом (собирание) приводит к исключению жизни из себя в этом целом, она словно переливается через свой метафизический край»16. Я не очень пониманию, почему здесь заходит речь о каком-то скрытом в герменевтике парадоксе, если философская герменевтика, как представляется, и появилась на свет именно как способ выявить сущностную парадоксальность понимания, автономного по той самой причине, что оно укоренено в пере-живании, что по сути оно и есть жизнь, переливающаяся через свой метафизический край17. Так или иначе, согласно А. В. Ахутину, также и в герменевтике возможны два способа «бегства» от парадокса — мета-фи-зический и мета-смысловой, при которых «то ли “смысл” воздвигается над жизнью в качестве ее “господина” или, наоборот, “жизнь” утверждается в качестве универсального подлежащего (субъекта) своих культурных сказуемых (органов, орудий усиления своей жизненности, воли к воле)...»18. Чтобы не впасть, но войти в парадокс герменевтики, надо понять ее как «герменевтику непонимания», — об этом заключительная часть статьи.
* *
*
Переходим к Бадью. Как можно было заметить, в статье А. В. Ахутина парадоксы культурологии не сводились к проблемам одной только культурологии; речь шла, по сути дела, о понимании, стало быть, об истине, которая, как известно из Гегеля, конкретна и тем самым универсальна. Если угодно, здесь тоже можно усмотреть некий парадокс, но парадокс, снимаемый идеей опосредования. Напомню, что, по Гегелю, дух19 и есть не что иное, как опосредование. Индивидуальное тогда индивидуально, когда оно опосредовано универсальным. Уже у Лейбница монада потому была неповторимой индивидуальной перспективой, «точкой зрения» на мир, что охватывала весь мир, видимый именно с данной неповторимой точки зрения20. В философской герменевтике, в рамках которой только и обретает свой смысл культурология, понимание всегда обеспечено неким целостным — универсальным — контекстом, всегда остающимся «по ту сторону», за пределами горизонта, очерченного пониманием. Понимание и есть, собственно, расширение этого горизонта.
Ален Бадью тоже говорит об истине как «процессе», но для него всякое опосредование какого-либо события путем включения в некий универсальный контекст
лишает его, это событие, его событийной истины, блокирует «процесс истины»: событие не индивидуально, а сингулярно, и как сингулярное оно универсально непосредственно. Такое понимание универсализма нуждается в истолковании и обосновании, и вот тут на помощь атеисту и материалисту Бадью приходит, как он полагает, апостол par excellence — св. Павел.
Бадью обращает внимание на то, что «современный мир вдвойне враждебен по отношению к процессу истины»21. Идущие рука об руку универсализация и фрагментация, диктуемые требованиями мирового рынка, рождают «культуралистскую и релятивистскую идеологию», характерным признаком которой являются безудержное желание «самоидентификации» меньшинств («негры-гомосексуалисты, сербы-инвалиды, католики-педофилы, исламисты умеренного толка, женатые священники. .. »22), естественно сопровождающееся требованием равных прав со всеми остальными. Борьба за права меньшинств (культурных, национальных, сексуальных...), «требования идентичности», с одной стороны, и абстрактная всеобщность — капитала, с другой, зеркально отражают друг друга и невозможны друг без друга, поскольку идентификация создает «фигуру», выступающую объектом инвестиций.
Бадью, безусловно, прав, говоря о взаимообусловленности двух процессов — глобализации и фрагментации, универсализации и дробления. Будучи противоположно направленными, они друг в друге нуждаются и невозможны один без другого. Глобалисты и антиглобалисты, может быть, вовсе не желая того, трудятся на одной ниве, и результат их усилий общий — абстрактная гомогенизация. Иными словами, усреднение23 и подмена. Идеологов культурной самодостаточности и самобытности в конечном счете всегда отсылающих к языку, расе, нации, религии или полу, объединяет именно м,онетаристская абстракция, «бессмысленная всеобщность капитала»24. Можно сказать (это мы «от себя»), что современное «почвенничество» — такой же продукт либерализма, как и финансовый мондиализм. Самый дикарский фундаментализм ныне только и возможен как превознесение ценностей собственной культуры, т. е. он необходимо культурно опосредован, «сосчитан» в виртуальном акте «обмена» на другие культуры, он — безнадежно «культурный» фундаментализм. Талибы, взорвавшие буддийские статуи, — не первобытные
25
дикари, а дикари цивилизованные «вторичные»25: уничтожение памятников — это для них акт культурной самоидентификации в качестве непримиримых врагов западных ценностей. Будда просто попался под руку. Рынок сделал мир целым, «конфигурировал» его, тем же талибам без всеобщего эквивалента никак. Кроме того, наивных людей не осталось, в нынешнем глобальном мире все знают друг о друге всё и понимают друг про друга всё. Сталкиваются не цивилизации26, как, например, в Средние века или в эпоху колонизации, а интересы. Интерес же имеет точное количественное выражение, это, как известно, процент. Бадью, впрочем, говорит не о талибах, а о Франции, переживающей, по его мнению, «ползучую пет-энизацию», которая заключается в том, что закон, в принципе одинаковый для всех, незаметно переходит под контроль «национальной» модели (максима партии Ле Пена: «Франция французам»), когда «проверка идентичности» оказывается простой полицейской мерой...27 Итак, «капиталистическая логика общего эквивалента и логика культурной идентичности общин или меньшинств образует упорядоченное единство. Эта упорядоченность ... органически лишена истины», процесс которой «не может поддерживаться абстрактным постоянством единиц счета. Истина всегда остается вне счета. ..»28. Отложим на минуту Бадью и вернемся к культурологии.
Культурология — наука в принципе несовременная, не «ныне» несовременная, а
несовременная всегда, наука, сложившаяся на материале прошлого. Корнями она уходит в Просвещение и глубже — в ХУ1-ХУ11 вв., когда на заре Нового времени, как раз в эпоху бурной экспансии Запада, надо было выяснять отношения с обитателями открытых и покоряемых земель. Тогда-то и стало постепенно изменяться содержание слова «культура», все более приближаясь к современному его смыслу, предполагающему возможность употребления этого слова во множественном числе. Соответственно, изучение «культур» пересекалось с историей, этнографией, языкознанием и обрело уже в XX в. собственно научный статус не столько в виде некой описательной науки, сколько в качестве критики, или исследования условий возможности общения разных культур. Тут ему на помощь пришли этнология, структурализм, семиотика и философски обслуживающая культурологию герменевтика. Конечно, просветители XVIII в. вовсе не считали все культуры равными, но принципиальное, т. е. изначальное равенство их состояло в том, всякое общество могло стать просвещенным, и — самое главное, то, что и обнаружило радикальность случившихся перемен: критерием просвещенности наций выступила культура как таковая, лишь отчасти явленная в своем зримом облике в тех нациях, которые сами сочли себя просвещенными. «Культура как таковая» — это культурность как последняя цель культуры. Высшей целью культуры оказывается сама культура. Кант, который своими «Критиками» подводит черту под Просвещением, пишет об этом так (83-й параграф «Критики способности
29
суждения», где «культуре умения» противополагается «культура воспитания»29): «материальность», т. е. содержательность и, стало быть, зависимость от природы (не от человека) всех человеческих целей, высшая из которых — счастье, «делают его неспособным ставить конечную цель своего собственного существования и согласовываться с ней. Следовательно, из всех его целей в природе остается только формальное, субъективное условие, а именно способность вообще ставить себе цели <...>. Приобретение (НегуогЬп^и^ — Ьегуог- «изнутри наружу», Ьп^еп— «приносить, доставлять», значит, не «приобретение», а, скорее, буквально «про-извод-ство». — А. П.) разумным существом способности ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) — это культура. Следовательно, только культура может быть последней целью, которую мы имеем основание приписать природе в отношении человеческого рода (а не его собственное счастье на земле и не [его способность] быть главным орудием для достижения порядка и согласия в лишенной разума природе вне его»)30.
Итак, ответ Канта на вопрос о последней цели природы «в отношении человеческого рода» — ибо сами по себе цели природы нам неведомы, и мы даже не знаем, есть ли они у нее — полагает в качестве таковой культуру. Причем, содержательно (материально) культура никак не определяется; формально же — это способность ста,вить любые цели вообще. Это что-то принципиально новое, произведенное на свет именно Просвещением, раньше такого — чтобы целью образования (культуры)'31 было само образование (культура) — не было. Уровень (все более высокий) культуры как результат цивилизационного процесса выступает отныне общим знаменателем при сравнении разных наций (обществ), которые все становятся в большей или меньшей мере культурными. Они все теперь —«культуры». После Просвещения можно говорить о египетской, латиноамериканской, первобытной и других культурах. И тот день, когда такое становится возможным, когда слово «культура» становится, вроде «ножниц», р1игаИа 1аП;ит, когда оно, строго говоря, употребляется только во множественном числе, открывает новую эпоху в истории че-
ловечества — эпоху культуры. До Просвещения, до Канта (Античность, Средние века; переходный период — Возрождение и значительная часть Нового времени) целью и смыслом жизни могло быть что угодно, но только не культура как способ упорядочения лишенной разума природы в человеческий мир. Мир представлялся структурированным в иерархию сущностей (или «метафизических мест»), восходящих к всеобщему основанию (оно же вершина) — перводвижителю-уму, Единому, или потустороннему Богу-творцу. Целью и смыслом жизни было осознание своей причастности Первоначалу и тем самым подлинное причащение ему (спасение32). Поэтому этика никак не могла быть формальной, как у Канта, не могла ограничиваться формальным предписанием поступать так, чтобы максима поступка могла стать всеобщим нравственным законом (решение этого вопроса — может, не может — отдается на откуп поступающему), она была содержательной, т. е. представляла собой набор заповедей-императивов: это делай, а этого не делай. Эпоха культуры началась тогда, когда мир съехал с божественного ума как своего основания и воздвигся на человеческой способности ставить себе любые цели. В прежние времена поступать надо было по закону (Моисея, Христа, Магомета, Будды...). Эпоха культуры выставляет идеальной нормой поведения саму форму нравственного закона. Что делать — решай сам, но смотри, как это будет выглядеть со стороны и что будет, если все остальные будут руководствоваться такими же императивами. Императив — это то, что диктует мне изнутри: сделай так! Так вот, когда этот диктат обусловлен чем-то, то диктует не он, а это самое «что-то», его обусловливающее: закон, привычка, традиция. Но тогда и ответственность за поступок несу не я, а закон, традиция, генетика и т.д., т. е. поступка, поскольку поступаю не-я, фактически нет. Но если нет поступка, то нет и меня поступающего. Я как начало поступка потерялся в бесконечных причинах и следствиях. Безусловный же (ничем не обусловленный) императив, или, как говорит Кант, императив категорический, это не субъективное желание и поползновение, а диктат, обретающий силу нравственного закона, и обретает он эту силу закона именно благодаря очищенности от всякого содержания: сообразовывайся сам со своими обстоятельствами, ставь любые цели, но делай это так, чтобы не относиться к другим только как средству для достижения твоих собственных целей. Ибо и к тебе могут отнестись так же. На самом деле мы непрестанно используем других в качестве средств, и не можем не делать этого, но не нужно думать, что на этом все и кончается. Надо уметь отнестись к человеку также и как к цели самой по себе. На этой высокой ноте завершается Просвещение. Вступает в свои права эпоха культуры, эпоха, когда старый универсализм «божественного» основания мира (логика сущности, логика определения, она же — логика идентичности: основание мира, логическое и бытийное — принцип тождества) подтачивается «мультикультурализмом», дает очевидные сбои и, наконец, уступает позиции релятивизму, опять же «культурному». Но это было отступление. Вернемся к Бадью.
На чем, по его мнению, стоит современный универсализм конца второго — начала третьего тысячелетия от Р. Х.? На экспансии капитала, учреждающего свободную циркуляцию товаров и услуг («мондиалистская логика капитала») и на сопровождающей «глобализацию» фрагментации разных «идентичностей». Ситуация эта обозначается как «культурализм» или «мультикультурализм». Логика идентичности (самобытности) лишь по-видимости противостоит мультикультурализму. Если же идентичность национальная, то тут уже речь не об уравнивании в правах, а об ограничении прав инородцев. Как говорит Бадью, «петэнизация Франции»33. И
он отмечает еще одну важную вещь: да, мондиализм — это свободная циркуляция всего и вся, но лишь того, что поддается счету34. «Свободная циркуляция не поддающейся счету бесконечности, представляющей собой уникальную человеческую жизнь, находится под запретом»35. Вместо настоящего универсализма, о котором еще речь ниже, мы имеем абстрактную гомогенизацию, сюжет усреднения... Таким образом, нынешний универсализм, как и логика идентичности представляют собой лишь подмену имен («капиталистическую подмену», по Бадью)36.
Если же обратиться к ученым штудиям, то вопрос об истине (о мысли вообще) в них постепенно сводится к вопросу о языковой форме суждения (а здесь находится «точка схождения аналитической англосаксонской идеологии и герменевтической традиции, которые совместно сковывают современную академическую философию»), что «приводит к культурному и историческому релятивизму», выступающему сегодня «и как общественное мнение и как “политическая” мотивация, и как парадигма наук о человеке»37. Отсюда и нужда в новом обосновании универсализма.
Мне кажется, что тут все свалено в кучу и много неясного. Идентичность идентичности рознь: одно дело «уравнивающее с самим собой» трудное «прихождение в себя», о котором неустанно твердит вся философская традиция, и совсем другое «идентичность меньшинств». Сама по себе «идентичность» не виновата в том, что столько народу о ней твердит как о чем-то само собой разумеющемся. Обрел «идентичность» и стал, и только теперь ты что-то значишь и можешь, можешь понять своих, таких же придурков, как ты, выступать от имени.. .и пр., а до того, нет. И обрести идентичность несложно: надо заявить о себе, вот, мол, мы такие, и требуем таких же прав... С другой стороны, а почему бы «меньшинствам» (инвалидам, к примеру) не бороться за свои права, закон-то, как выражается Бадью, трансцендентен (должен таковым быть). Переходы от борьбы за права и мондиализ-ма к аналитической философии и герменевтике тоже очень «крутые». Что истина «всегда вне счета»38, —это звучит красиво, но как быть с тем, что первое словарное значение слов Хоуос и ratio — «счет», не тот, который на рынке, уточняет Платон в 7-й книге «Государства», а счет изначальный, совпадающий с «наукой о бытии», «число считаемое», по Аристотелю, а не то, «с помощью которого считают»? И т.д.
Ясно, однако, чего хочет Бадью и для чего ему нужен апостол Павел. Он хочет «заново обосновать связь между истиной и субъектом», истиной, «событийной и случайной» и субъектом (избранным и героическим)39. Такой обосновывающий жест когда-то совершил апостол Павел, отчего и стал апостолом по преимуществу. . . Смысл жеста: обоснование универсальной сингулярности, стало быть, выяснение вопроса о том, каковы ее условия?40 Само содержание события (проповедь воскресения) Бадью оставляет в стороне.
Условий (не столько условий, потому что универсальная сингулярность как таковая безусловна, — она не обусловливается условиями, сколько предъявляемых к ней требований) четыре:
1. Субъект не предшествует событию, которое он декларирует.
2. Истина принадлежит порядку декларации, удостоверяющей убежденность относительно события. В этом смысле она субъективна.
3. Важна верность декларации, так как истина — не озарение, а процесс.
4. Субъективность истины — это необходимая дистанция по отношению к государству и соответствующему аппарату формирования мнений. «Истина — процесс, требующий сосредоточения и серьезности, который никогда не должен соперничать
со сложившимися мнениями41.
(1). Именно декларация события (Воскресения) делает Павла апостолом. Он не ученик Христа, следовавший за Учителем, как остальные апостолы. Его право проповеди никак не обосновывается (принадлежность группе и т.д.). Он призван. Его призвание—декларация воскресения — делает его апостолом. Он говорит то, что призван говорить, и говорит от своего имени. «Кто» говорит, неотделимо от «что» говорит. «Кто» не раньше «что». Зазора между «субъектом» (тем, кто декларирует) и «декларацией» нет.
(2). Истина «вне» закона в том смысле, что она из него не выводится и под него не подводится. Она предстает радикальным опровержением как иудейского закона, «ставшего устаревшим и вредным», так и греческого закона, подчинившего судьбу космическому порядку.
(3). «Верность декларации», или «процесс» истины, описывается тремя понятиями, фиксирующими состояние декларирующего истину субъекта: пют1с, «вера», правильнее «убеждение»; ауащ, «милосердие», правильнее «любовь»; еХгас, «надежда», лучше «уверенность».
(4). Истина вне споров о «мнениях». «Дискурс» истины не может пересекаться с ними, он должен быть «диагональным» по отношению к ним.
Три радикальных исключения (из группы, из закона, из мнений) плюс «верность декларации» суть «максимы» универсальной сингулярности. Перескажем самое основное, что говорится об универсальности Павла, опустив многие интересные соображения и детали.
Что означает «быть апостолом»? Это означает не быть ни пророком (иудейский закон), ни философом (греческий логос). «Призвание» Павла противостоит притязаниям тех, «кто под именем “сопровождавших” и “видевших”, считают себя гарантами истины»42. Апостол — не свидетель происходившего и не память о нем. Прошлое помнится таким, каким его предписывает помнить настоящее43. Поэтому важно от собственного имени заявить, что бывшее было, и «делать то, чего требует настоящая ситуация с предоставляемыми ею возможностями». Спор о событии (о воскресении, во времена Павла; о газовых камерах в наше время) — не спор историков и свидетелей. Аргументы «за» и «против» бесполезны. «Нет смысла спорить с эрудированными антисемитами, нацистами в душе, которые в избытке «свидетельствуют», что ни с одним евреем при Гитлере сурово не обходились»44.
Само по себе событие, декларируемое апостолом (воскресение), в глазах Павла не является чем-то фальсифицируемым или доказуемым. «Оно есть чистое событие, начало эпохи, изменение соотношения возможного и невозможного»45. И апостол — тот, кто называет эту возможность. Декларируя неслыханную возможность, он, в сущности, не познает ничего (в отличие от философа, познающего вечные истины, и в отличие от пророка, знающего, что должно произойти). «.. .Истина возникает без доказательств и видимости в тот миг, когда отказывает знание, будь оно эмпирическим или понятийным»46. Событие и факт —вещи разные. Факт, эмпирический или логический (понятийное знание), всегда сопряжен со знанием, он требует доказательств, верификации, свидетельств и т.п., событие — только с универсальным множеством, возможность которого оно предписывает47. Дело Павла — такое благо-вествование, которое «не упраздняет креста». Иными словами, не упраздняет событие, знак которого крест. Но что это означает? Это означает, говорит Бадью, что событие таково по своей сущности, что философский логос не в состоянии его провозгласить, равно как и закон (иудейский) вместить. Парадокс, однако, в том, что
если бы логос и закон служили подтверждением событию, то событие как таковое сделалось бы излишним: крест упразднился бы, что, впрочем, нередко происходило в истории христианства, если только сама история христианства не есть упразднение креста. В этой связи действительно иной смысл получает универсализм Павла, обычно понимаемый «этнически» (Павел — апостол етуо1,): «несть ни еллина, ни иудея». Иначе говоря, если иудаизм был и является так или иначе религией евреев, этнической религией, заветом Израиля со своим Богом, так сказать «коллективным» договором с ним, то «космополитическое» христианство требует от каждого адепта «личной жертвы», именного договора (Новый завет)48. Но не похоже на то, чтобы «эллин» и «иудей» именовали этносы; почему тогда из множества тогдашних племен и народов Павел выбирает только греков и евреев? «Эллин» — собирательное имя для язычников? Но тогда эти язычники — из «Афин», как то косвенно подтверждает Тертуллиан, возводя «наше учение» к «портику храма Соломонова». Павел вне обоих: и «Иерусалима», и «Афин». «Крест»—иудеям соблазн, эллинам безумие. И если последующая история христианства, и в значительной мере Запада, объясняется (познается) как «синтез Афин и Иерусалима» (логики логоса и логики авторитета), то начало этой истории положено не каким-то там «синтезом», а чистой декларацией события и уверенностью (верой) в открытую им возможность победы над смертью.
Коль скоро событие внеположно обоим «дискурсам» (космическому логосу и логосу авторитета-творца), то формула «несть ни еллина, ни иудея» декларирует их «не-различие», «упраздняет частные предикаты культурных субъектов», будучи «обоснованием субъекта как разделения, а не как поддержания традиции»49. «Для Павла . . . Христос-событие гетерогенен закону, превосходит всякое предписание — благодати не нужны ни понятия, ни ритуалы. Реальное, таким образом, не есть ни нечто привязанное к тому или иному месту (греческий дискурс), ни ставшее буквой избранническое исключение, окаменевшее в вековечном законе (иудейский дискурс). “Юродство проповеди” избавляет нас от греческой мудрости, дисквалифицируя порядок мест и тотальности. Оно избавит нас от иудейского закона, дисквалифицируя соблюдение закона и обряды. Чистое событие не приспосабливается ни к тотальности природы, ни к требованиям буквы»50.
* *
*
Подведем итоги. Разбор парадоксов культурологии закономерно приводит А. В. Ахутина к разговору о герменевтике, герменевтика — к проблемам (к проблеме) онтологии. Об онтологии в конечном счете ведет речь и А. Бадью, видящий в апостоле Павле апостола нового универсализма. Нельзя вести речь об онтологии, не говоря об основаниях универсализма, и наоборот, ибо онтология, как известно, и есть вопрос о сущем, и словечко «сущее» изобретено философами как раз для того, чтобы мочь спросить о всяком сущем, иначе говоря, взять его, сущее, в целом. И это большой вопрос: как его, сущее, взять в целом, если целиком сущего никто из смертных никогда не видел и не увидит? Однако, притом что «взятие сущего в целом» оказывается очевидно проблематичным, онтическое отличие Dasein, по Хайдеггеру, в том и состоит, что мы онто-логичны, т. е. поставлены в бытии нашим же (поставленный нами наш вопрос ставит нас в бытии) вопросом о смысле сущего. И это никакой не парадокс. Мы — универсалисты, т. е. можем существовать только в
целом мире, даже если не знаем, какой он целиком, даже если совсем не убеждены в его целостности, даже если не умеем совместить целостность с бесконечностью. И даже если мы не спрашиваем о целом мира (нам не до того, есть поважнее дела), мы все равно поставлены в бытии тем же самым вопросом, только заданным не нами, а за нас... Культурой, традицией... Но это означает, что наше Sein уже не йв, а где-то там, в культуре, в традиции. . .
Культурология ведет речь о культурах, традициях; онтология — об «эпохах» бытия. В разные эпохи сущее в целом вырисовывается по-разному; ставящий нас в бытии вопрос о целом сущего ставится как-то иначе. Откуда мы об этом знаем? Мы об этом догадываемся, потому что не понимаем, как это люди, вроде, неглупые, напротив, известные как мудрецы или философы, могли нести околесицу насчет всяких там «начал», «занебесной области», ума-перводвижителя, интеллигенциях — небесных сферах, как это они могли всерьез верить в науку, уповать на научно-технический прогресс или революционное сознание пролетариата. И сейчас атеист не может понять, как это христианин верит в воскресение Иисуса Христа, а христианин не может понять, как это атеист не верит. Влюбленный не может понять, как можно ее не любить, она не может понять, чего ему от нее нужно, а окружающие только диву даются, чего он нашел в этой выдре? И так далее. Но мы, люди одной эпохи, по крайней мере, знаем, что такое возможно. Какие-то возможности нам открыты. А какие-то (говорить о занебесной сфере и уме-перводвигателе) нам закрыты. Чем? Целым нашего мира, которое для культурологии будет языком нашей культуры, для философской герменевтики — глобальным контекстом наших «переживаний», устанавливающимся нами же, нашими переживаниями и действиями (которые продиктованы нашим предпониманием бытия — предрассудками), и всегда остающимся за кадром, т. е. знаемым «ученым незнанием». И вот когда мы все это понимаем, мы также начинаем понимать, что слова «начало», «занебесная сфера», «ум-перводви-житель» и другие в иных «мирах» (эпохах бытия) имели иное значение, до которого нам еще нужно попытаться добраться, прежде чем удивляться наивности людей, их употреблявших. Тогда ум-перводвижитель вполне может оказаться «метафизической границей всего физического», «действительностью» (энергией), свойственной только «совершенным действиям», например, мышлению, чувству и т. п. Но все эти реконструкции возможны только при условии деконструкции (или хотя расшатывания) устоев той целостности, которой мы принадлежим. Но для этого нужно, чтобы случилось что-такое, что вытолкнуло бы нас из собственного «языка», заставило бы на какое-то время умолкнуть и, может быть, — пусть вполне косноязычно —начать говорить иначе. Вот это А. Бадью и называет событием.
Событие — не что-то, что с нами происходит или может произойти, это мы происходим «из» события. В традиционной метафизике событие проистекало из «начала», оно мыслилось как его следствие (эманация). Так или иначе оно было обусловлено 51. Греческий логос был гипостазированной логикой определения, иначе говоря, развернутой логической структурой вопроса о сущности— что это такое (есть). Эта логика необходимо требовала, чтобы был последний предел, неопределимый предел всякой определенности. Поэтому космический порядок развертывался иерархией метафизических мест, которым по своей сущности должны были соответствовать разные вещи. Еврейский закон хоть и выводил мир из события, событием этим было сотворение мира запредельным Богом, этот самый закон и устанавливающим (логика авторитета: аи^ог— творец). Если метафизика была учреждена вопросом о сущности (созерцательным—«теоретическим» вопросом), то логика авторитета — это
императив: делай, не делай. В обоих случаях обстояние дел в мире — то, что в нем происходит — было обусловлено либо космическим порядком, либо следованием — не следованием закону. Соответственно, истинно постигал вещи тот, кто постигал их соответствие или несоответствие порядку (закону). И вот в XX в. мы узнаем, что это две «фигуры господства», что истина событийна и случайна. Об этом — голос из Франции. Но еще раньше был голос из Германии, который говорил об онто-тео-логическом характере традиционной метафизики примерно в том же ключе52. У нас онтологическое первенство события внятно объяснял М. К. Мамардашвили, ссылаясь при этом «на французов»53.
Так что же «парадоксы»? Не сводятся ли они к одному главному — парадоксу «обращения», к которому незадолго до Бадью привлек внимание М. Фуко, занимаясь историей «заботы о себе»?54 Парадокс в том, что только обращение на себя впервые какого-то «себя» (un soi) и учреждает: не обратившийся на себя собой не является. И именно это событие обращения, впервые учреждающее «субъекта», делает его зрячим, позволяет усмотреть некое обстояние дел. Впрочем, это не просто «прозрение» и не «озарение», нужна «верность» событию, нужно из него «извлечь опыт», ибо истина не только событийна и случайна, она еще и процесс. . . Отсюда видно, что идентификация как отождествление себя с той или иной группой или въевшееся в нас представление о себе как о «личности», неповторимом драгоценном я и т. п., все то, что М. Фуко удачно окрестил «моралью удостоверения личности»55,—это еще полдела, а, по правде говоря, даже еще не его начало.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Badiou A. Saint Paul La fondation de l’universalisme. Paris P.U.F., 1997. Русский перевод: Бадью А. Апостол Павел Обоснование универсализма / Пер. О. Головой. М.; СПб.: Московский философский фонд. Университетская книга, 1999.
2 Ахутин А. В. Парадоксы культурологии // Человек—культура—история. М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 2002. С. 156-193.
3 Там же. С. 156.
4 Там же. С. 158.
5 Отчуждение не обязательно означает отказ; речь идет о «взгляде со стороны», именно автореференции, которая одна позволяет затем признать этот язык своим.
6 Со времен Просвещения.
7 Ахутин А. В. Парадоксы культурологии. С. 164-165.
8 Там же. С. 165.
9 Почему бы не сказать «мировых смыслов»?
10 Ахутин А. В. Парадоксы культурологии. С. 164.
11 Там же. С. 167.
12 Там же. С. 173.
13 Там же. С. 174.
14 Там же. С. 176.
15 Там же. С. 178. — «Une vide avide», как выражался по этому поводу А. Кожев, «алчущая заполниться пустота».
16 Там же. С. 179.
17 И даже необязательно метафизический: переживание — всегда «через край»; невозможно, к примеру, пережить измену, и она переживается.
18 Ахутин А. В. Парадоксы культурологии. С. 179-180.
19 Тот самый, который дышит, где хочет.
20 Впрочем, логика опосредования индивидуального всеобщим исчерпывающе описана неоплатониками. См.: Прокл. Первоосновы теологии.
21 Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. С. 13.—Приведем цитату: «Наш мир совсем не так “сложен”, как утверждают те, кто хочет его увековечить. В своих основных чертах он даже абсолютно прост.
С одной стороны, наблюдается постоянное распространение механизма капитала, подтверждающее гениальное предсказание Маркса: мир, наконец-то, конфигурирован, правда, как рынок, причем рынок мировой. В этой конфигурации превалирует абстрактная гомогенизация . . . С другой стороны, имеет место процесс фрагментации закрытых идентичностей и формирования культуралистской и релятивистской идеологии, сопровождающей эту фрагментацию. Эти два процесса превосходно сплетены. Ибо всякая идентификация... создает фигуру, выступающую как объект рыночных инвестиций» (С. 11-12).
22 Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. С. 12.
23 «Сюжет усреднения» — выражение В. Маканина.
24 Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. С. 9.
25 Г. В. Флоровский в «Путях русского богословия» говорит о краснософийных романтиках хаоса: это не тот, древний первичный хаос, а хаос вторичный, искусственный.
26 Которые поначалу не понимают с кем и чем имеют дело, и только в ходе борьбы постепенно уясняют себе, что речь идет о неких культурных целостностях, результатом чего, в конце концов, и оказывается самосознание европейской культуры как культуры. Одной из культур, хотя бы и образцовой.
27 Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. С. 10-11.
28 Там же. С. 12-13.
29 Здесь «культура» —в традиционном смысле — «выращивание души», «образование» как становление человеком.
30 Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 464.
31 Греч. рщЗега и лат. сиНига— «образование», «георгика души» (Фр. Бэкон).
32 Оно вполне могло быть «секулярным», как у стоиков.
33 Посмотрел бы он на нынешнюю Россию!
34 Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. С. 12.
35 Там же.
36 Там же. С. 13-14.
37 Там же. С. 8-9.
38 Там же. С. 12.
39 Там же. С. 10.
40 Там же. С. 15.
41 Там же. С. 15-16.
42 Там же. С. 39.
43 «Я не сомневаюсь, что надо помнить об уничтожении евреев или о борьбе участников Сопротивления. Но я обнаруживаю, что память какого-нибудь маньяка-неонациста... Я вижу, что немалое число людей сведущих (в том числе и историков) извлекло из своей памяти времен оккупации и из собранных ими документов вывод о том, что у Петэна было немало заслуг» (Там же).
44 Там же.
45 Там же. С. 40.
46 Там же.
47 Там же.
48 Объяснение Нового времени как эпохи культуры проистекает именно из такого — более привычного, нежели обосновываемое Бадью, — понимания универсализма. Универсализм этот в Новое время, повторяю, продиктован идеей культуры. Идея культуры как универсальная идеальная норма поведения — это своеобразная секулярная апофатика, вовсе не обязательно враждебная религии, но радикально меняющая ее характер, во-первых,
потому, что религия становится религиозным сознанием (для которого Бог — ценность, высшая, но все равно ценность), во-вторых, потому что это религиозное сознание вынуждено мириться (не временно, просто из-за невозможности сейчас же обратить супостата в свою веру или разделаться с ним, а в принципе) с наличием других религиозных сознаний (веротерпимость). Эпоха культуры — итог победы христианства (но не апостола Павла) и христианского принципа обращения. Эллин ты или иудей, обратившись, ты становишься христианином, гражданином вселенского града тех, кто сам пришел к Богу. Конечно, это «сам» семантически очень нагружено и противоречиво. Но именно оно определяет особенности Нового завета в отличие от прежнего Ветхого — коллективного — договора с Богом вплоть до того, что даже наличие зла в мире отныне объясняется тем, что, желая, чтобы человек сам к нему пришел, Бог наделил его свободой воли (выбора), в котором (выборе) человек всегда может ошибиться. Повторим, христианское обращение — это акт непосредственного соотнесения себя с запредельным творцом мира, вселенское обращение (ипі-уетеит) как личный опыт.
Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. С. 51.
50 Там же. С. 50.
51 Поэтому постмодернистам так нравится эпикурейский клинамен.
52 «Павел предваряет критику того, что Хайдеггер впоследствии назовет онтотеологией, в которой Бог мыслится как высшее сущее и, стало быть, как мера того, на что способно бытие как таковое» (Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. С. 41).
53 Лекция в Доме ученых (еще в Ленинграде), в ответ на вопрос о «влияниях».
54 Фуко М. Герменевтика субъекта.
55 То совпадение с собой, которому учила античная «культура себя», культивируя «заботу о себе», новоевропейской «моралью удостоверения личности» вовсе не исчерпывается и к ней не сводимо. Идентичность — то, что удостоверяется в ходе идентификации. Идентификация — это, по-русски, отождествление. В быту — удостоверение личности. Без удостоверения личность — еще не личность. Всякая личность должна быть удостоверена. Как удостоверяется личность? Вообще-то, в акте обращения на себя. Она, строго говоря, возникает, «образуется» лишь в миг «обращения на себя». До обращения ее не было и нет после. Она есть только как обращающаяся на самоё себя, в самом акте обращения. Это парадокс. Та личность, которая носит с собой удостоверение, может и не быть личностью. Удостоверение личности — в самом общем виде (паспорт, к примеру) призвано удостоверять простую вещь — что данное человекоподобное существо в принципе отвечает за свои поступки, потому что, обратившись на себя, может оценить свои действия как хорошие и плохие, законные и противозаконные. Оно — юридически и граждански ответственное лицо. Но этого мало. . .





 CC BY
CC BY 221
221