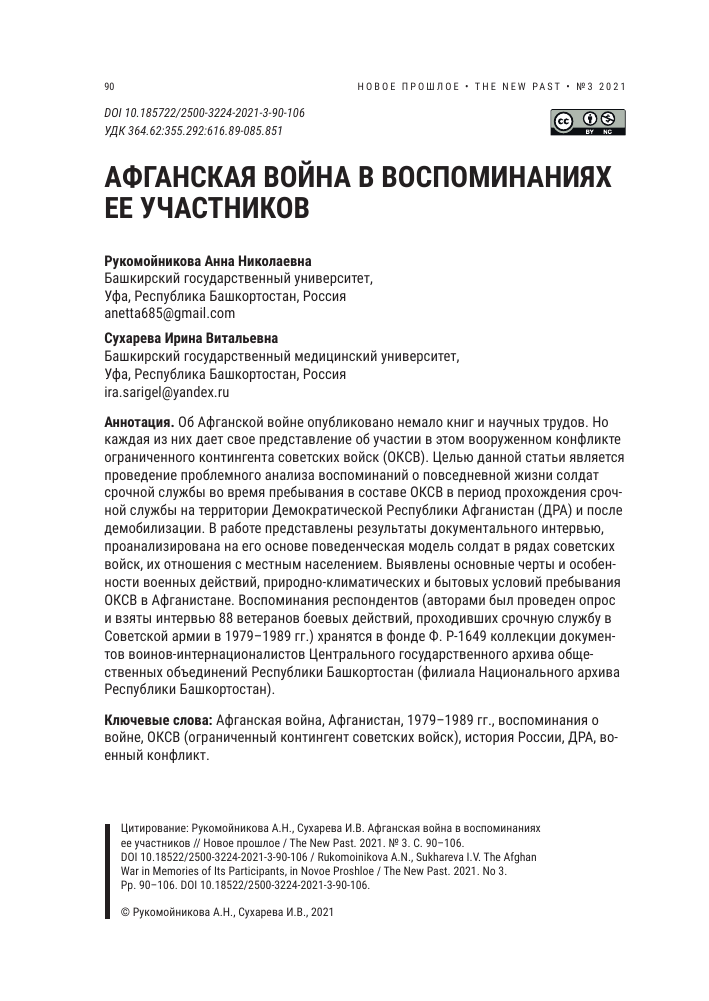DOI 10.185722/2500-3224-2021-3-90-106 УДК 364.62:355.292:616.89-085.851
шш
АФГАНСКАЯ ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ
Рукомойникова Анна Николаевна
Башкирский государственный университет, Уфа, Республика Башкортостан, Россия anetta685@gmail.com
Сухарева Ирина Витальевна
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Республика Башкортостан, Россия ira.sarigel@yandex.ru
Аннотация. Об Афганской войне опубликовано немало книг и научных трудов. Но каждая из них дает свое представление об участии в этом вооруженном конфликте ограниченного контингента советских войск (ОКСВ). Целью данной статьи является проведение проблемного анализа воспоминаний о повседневной жизни солдат срочной службы во время пребывания в составе ОКСВ в период прохождения срочной службы на территории Демократической Республики Афганистан (ДРА) и после демобилизации. В работе представлены результаты документального интервью, проанализирована на его основе поведенческая модель солдат в рядах советских войск, их отношения с местным населением. Выявлены основные черты и особенности военных действий, природно-климатических и бытовых условий пребывания ОКСВ в Афганистане. Воспоминания респондентов (авторами был проведен опрос и взяты интервью 88 ветеранов боевых действий, проходивших срочную службу в Советской армии в 1979-1989 гг.) хранятся в фонде Ф. Р-1649 коллекции документов воинов-интернационалистов Центрального государственного архива общественных объединений Республики Башкортостан (филиала Национального архива Республики Башкортостан).
Ключевые слова: Афганская война, Афганистан, 1979-1989 гг., воспоминания о войне, ОКСВ (ограниченный контингент советских войск), история России, ДРА, военный конфликт.
Цитирование: Рукомойникова А.Н., Сухарева И.В. Афганская война в воспоминаниях ее участников // Новое прошлое / The New Past. 2021. № 3. С. 90-106. DOI 10.18522/2500-3224-2021-3-90-106 / Rukomoinikova A.N., Sukhareva I.V. The Afghan War in Memories of Its Participants, in Novoe Proshloe / The New Past. 2021. No 3. Pp. 90-106. DOI 10.18522/2500-3224-2021-3-90-106.
© Рукомойникова А.Н., Сухарева И.В., 2021
THE AFGHAN WAR IN MEMORIES OF ITS PARTICIPANTS
Rukomoinikova Anna N.
Bashkir State University,
Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
anetta685@gmail.com
Sukhareva Irina V.
Bashkir State Medical University, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia ira.sarigel@yandex.ru
Abstract. Many books and scientific works have been published about the Afghan War. But each of them gives its own idea about the participation of a limited contingent of Soviet troops in Afghanistan. The aim of the study is a problematic analysis of the recollections of the daily life of conscripts during their stay in OCSV / during their military service on the territory of the DRA and after demobilization. Refuting the fragmentary perception, the article presents the results of documentary interviews, the model of behavior of soldiers in the ranks of the Soviet troops, their relationship with the local population. The main features and features of military operations, climatic and living conditions of the stay of Soviet soldiers in Afghanistan are revealed. Memories of our respondents (we conducted a survey and interviewed 88 veterans of military operations who served in the Soviet army in 1979-1989) are located at the Central State Archives of Public Associations of the Republic of Bashkortostan (branch of the National Archives of the Republic of Bashkortostan).
Keywords: Afghan war, Afghanistan, 1979-1989, memories of the war, OKSV (limited contingent of Soviet troops), history of Russia, DRA, military conflict.
Афганская война закончилась более 30 лет назад, но до сих пор ветераны помнят о ней. Для новобранцев участие в боевых действиях стало значимым событием в жизни. Любая война - это не только боевые задачи, это еще и человеческие судьбы. Данная статья посвящена анализу воспоминаний о повседневной жизни солдат срочной службы во время пребывания в составе ОКСВ/во время прохождения срочной службы на территории ДРА. Источниками исследования являются научные труды, мемуары, воспоминания написанные, свидетелями Афганской войны, а также опрос 88 ветеранов боевых действий, проходивших срочную службу в Советской армии в период 1979-1989 гг., из 30 воинских частей (в основном из 395 мотострелкового полка 201 мотострелковой дивизии), дислоцированных в 15 городах Демократической Республики Афганистан. Интервью были проведены с респондентами из разных стран и регионов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Ярославская область, Москва, Краснодар, Украина, Узбекистан, Германия, США и др.). Исследование проведено в русле военной антропологии и имеет междисциплинарный характер, поскольку использует методы устной истории, психологии, культурологии.
Афганскую войну описывают историки (А.А. Костыря [Костыря, 2008], В.М. Топорков [Топорков, 2014], Е.С. Сенявская [Сенявская, 1999], А.Ю. Умнов [Умнов, 2010], А.А. Жемчугов [Жемчугов, 2012], М.Р. Арунова [Арунова, Иваненко, 2015], В.В. Басов [Басов, 2011]), участники военного конфликта (А.А. Ляховский [Ляховский, 1995], Б.В. Громов [Громов, 1994], Ю.И. Дроздов [Андогский, Дроздов и др., 2002]) и другие. Историографический анализ свидетельствует о большом количестве работ по Афганской войне, но в то же время тема все еще не до конца изучена. Поскольку архивные материалы афганской тематики до сих пор засекречены, обращение к устным историческим источникам по этой проблеме приобретает особую актуальность.
Сохранение воспоминаний ветеранов боевых действий - важнейшая задача современного поколения. Время проходит, в памяти людей утрачиваются многие важные детали, меняется восприятие и оценки прошедших событий. С каждым годом ветеранов становится все меньше, вместе с ними уходит история пережитых событий.
Для достижения сформулированной цели в рамках статьи выявлены основные черты и особенности военных действий ограниченного контингента советских войск в Афганистане, определен характер межличностных взаимоотношений в рядах военнослужащих, а также специфика отношений солдат с местным населением, их восприятие природно-климатических и бытовых условий Афганистана.
Многие молодые люди после обучения отправились отдавать долг Родине в составе ОКСВ. Они не подозревали, что их ждет. Как вспоминает Николай Киршин, только после прохождения подготовки в учебной части им сообщили основное место службы. После распределения в Кундузе он попал служить в 1 автороту 395 мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, которая базировалась в Пули-Хумри [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 72].
Рис. 1. Н. Киршин за рулем автомобиля (личная коллекция респондента Н. Киршина)
Fig. 1. N. Kirshin driving a car (personal collection of respondent N. Kirshin)
На войну отправлялись 18-20-летние ребята, которые провели всего два месяца в учебной части: «Перед Афганистаном нас вывозили в горы пристреливать свои автоматы. Каждому выдали по три патрона. На этом наши стрельбы закончились... Через пару дней прислали несколько КАМАЗов, на которые нам пришлось спешно переучиваться. На тот момент это были очень современные машины. Долго переучиваться нам не пришлось: машин мало, людей много, а время не ждет», - вспоминает Иван Сливин [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 9].
Ветераны боевых действий говорят о случаях опасно-легкомысленного обращения с оружием: «.Слышим какой-то непонятный хлопок и крик. Подбегаем, на земле лежит боец - все лицо в крови, как будто из дробовика кто-то выстрелил. Рядом Ф-ка1 с выкрученным и сработавшим запалом. Спрашиваем: "Что случилось?" Ответ сразил всех наповал: "Я не знал, что запал взрывается, я думал, что там искра, как на автомобильной свече, вот и хотел посмотреть"», - предается воспоминаниям Артур Домрачев [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 64].
1 Граната Ф-1 - ручная противопехотная оборонительная граната.
У солдат, пришедших на Афганскую войну, подготовка в учебной части не обеспечивала готовность к реальной боевой обстановке: «Первое, что запомнилось - это наше разгильдяйство - ранение и гибель еще до начала боевых действий в результате небрежного обращения с оружием или боевой техникой», - отмечает Анатолий Пудов [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 68]. Н. Киршин вспоминает аналогичный случай, когда на марше водитель-механик не справился с управлением танка. Машина перевернулась и раздавила находившегося рядом сержанта [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 9].
Наши собеседники пришли к выводу, что подобные происшествия не были случайностью. Отсутствие квалифицированной боевой и психологической подготовки приводили к жертвам, которых можно было бы избежать: «Вот так нас готовили к этой войне!» - восклицает Александр Березин [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 56].
Существовали и другие проблемы, с которыми постоянно сталкивались советские солдаты в Афганистане. Подавляющее число респондентов упоминали факты неорганизованности, халатности и откровенного воровства. Так вспоминает выступление своего полка Игорь Плетнев: «... взводный и кричит: "Батальон, подъем, боевая тревога". Быстро поднимаемся, вскрываем оружейку. Получаем оружие и направляемся в парк. Там уже комбат капитан Орлов торопит всех, чтобы быстрее выводили танки. Во второй роте машины не заводятся, аккумуляторы сдали на зарядку, а воздух в баллоны не закачали, комбат бегает и кричит, что всех перестреляет. Мы отгоняем свои танки и цепляем танки второй роты, вытаскиваем их из боксов и заводим. Прошли маршем 300 км. Затем вернулись на 100 км назад и встали лагерем, всей дивизией» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 60-61]. Много нареканий вызывало функционирование службы тыла: «Хитрый начальник стоянки-склада предложил нам самые бракованные машины: в одной не было тосола (антифриза), у другой был пробит радиатор, у некоторых не было ключей ремнабора. Чувствуя, что дальше может быть хуже, я выбрал машину без тосола... Вечером 8 марта рота собралась на выезд. Предполагался ночной марш на юг. Едва выехали, с машин начали сыпаться мелкие запчасти. Из-за запарки наши машины не заправили. Поэтому в рейс я выехал, имея всего 60 литров "соляры". Махнув рукой и понадеявшись на "авось", я ехал вместе со всеми» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 70-71].
Еще одной болезненной темой для «афганцев» является обеспеченность боеприпасами: «Мы прекрасно понимали, что 120 патронов слишком мало на случай, если придется принять бой, и поэтому запасались, где только можно» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 70].
Первая боевая операция 395-го полка, по воспоминаниям Александра Кушнирука, проходила в Баглане 9 апреля 1980 г. В этой операции было двое погибших: «Два гроба перед полком. Выстроили весь полк. Прибыл также Член Военного совета Армии генерал-майор А.В. Таскаев. Это первый и последний раз, когда с погибшими прощался весь полк» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 55].
Операция, запомнившаяся прапорщику А. Березину, проходила в начале мая того же года в уезде Нахрин, где стоял афганский артиллерийский полк. Этот полк
взбунтовался, изрубили четверых офицеров-советников. Часть моджахедов1 разбежалась по окрестностям, часть ушла через Андорабскую долину в Панджшер. Перед группой, в составе которой находился А. Березин, стояла задача обнаружить, разоружить и обезвредить их.
Рис. 2. Прапорщик А. Березин во главе строя (личная коллекция респондента А. Березина) Fig. 2. Ensign A. Berezin at the head of the formation (personal collection of respondent A. Berezin)
Несмотря на просчеты подготовки и трудности службы, солдаты с честью решали боевые задачи, проявляя мужество и героизм. Примером служит Азат Сафиуллин -рядовой водитель, одноклассник Н. Киршина. 18 апреля 1983 г. автомобильная колонна, где находился А. Сафиуллин, подверглась внезапному обстрелу. Его машина получила повреждение, а он сам был тяжело ранен. Но, несмотря на это, А. Сафиуллин открыл огонь по приближающемуся противнику. Убитого осколками мины А. Са-фиуллина посмертно наградили орденом Красной Звезды, и его имя увековечено на плите мемориала воинам-интернационалистам в Уфе [Книга памяти о советских войнах..., 1999, с. 347]. И таких примеров было множество. Судьба рядового пулеметчика 395 мотострелкового полка Михаила Ускова сложилась так же, как и судьба нашего земляка [Пензенский региональный общественный благотворительный фонд.].
Военнослужащие находились в колоссальном психологическом напряжении. Тал -гат Дистанов вспоминает, что был не готов к таким столкновениям: «Закрываешь глаза и стреляешь во все стороны. Едешь в КАМАЗе или УРАЛе, как в телевизоре, а их [душманов] не видать. Все на нервах. А если они напали, то кидаешься или под машину или в канаву и палишь в белый свет как в копейку. Выпалив магазин, начинаешь соображать и искать цель. И очень часто ее не видишь. На боевых, там понятно. Вокруг свои, и ты сила. » [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 8]. Местные жители, которых советские солдаты именовали «духами», знали каждый камень в горах, поэтому могли легко замаскироваться и скрыться от нападения.
1 Моджахеды - бойцы афганской вооруженной оппозиции.
По воспоминаниям Н. Киршина, при перевозке грузов в колонне душманы нападали следующим образом: «Сначала подбивали первую и последнюю машины, тем самым останавливая колонну, затем начинали обстрел» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 73]. Для предотвращения таких случаев колонны сопровождали два бронетранспортера (далее - БТР), для того чтобы во время нападения БТР мог оттащить поврежденную машину и освободить путь колонне. В случае крайней необходимости вызывали вертолет [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 8].
Опасность поджидала не только со стороны моджахедов. Угрозу таили в себе сами дороги: узкие, извилистые, каменистые горные серпантины. Для того чтобы проехать по ним, требовался большой опыт, хорошая практика, которые были не у всех водителей. Положение усугубляли внезапные пыльные бури, из-за которых невозможно было увидеть дорогу.
Вышеуказанные трудности иногда влекли за собой аварии и гибель людей. «Никогда не забуду, - вспоминает Т. Дистанов, - ехали мы с горки по серпантину, поворот за поворотом. Ребятам на броне весело. Старшим был молодой лейтенантик. Выскакиваю из-за очередного виража и вижу такую картину: БТР налез на скалу, его завалило набок. Вокруг тела разбросаны. Подлетаю. Крик ужасный. Волосы дыбом. Один лежит, придавленный колесом, половина снаружи, половина под БТРом. Кричит. Смотрю, а ступни ног у него развернуты обратно. Остальные стали приходить в себя, помогать друг другу, доставать из-под БТРа раненого. Загрузил я всех, человек двенадцать в УРАЛ, кровь, грязь, форма разорвана, и в госпиталь. В госпитале санитары всех оперативно положили на носилки, врачи сбежались, принесли переносной рентген. Стали им помощь оказывать, врач отдает команды: "Этого туда, этого сюда..", а к некоторым не подходят. Я спрашиваю: "В чем дело?", а он отвечает: "Эти уходят". Я был смят, ошеломлен, просто раздавлен. Ведь они только что бегали, мне помогали. Врач говорит: "Это был болевой шок". А тот, искалеченный, выжил» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 10].
Таким образом, большинство советских солдат, прибывавших в Афганистан, тяжело адаптировались к местным природно-климатическим условиям и бытовым трудностям. Советские воинские части не входили в населенные пункты и располагались практически в «чистом поле» - в пустыне, горах. Коммуникации первое время отсутствовали. Капитально обустраивались военные городки, в первую очередь вокруг авиационных баз, аэродромов - Баграм, Кабул, Кундуз, Кандагар. В большинстве остальных частей солдаты долгое время жили в палатках. А. Кушнирук вспоминает, что в самом начале его службы поток с гор смыл весь палаточный лагерь [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 17]. «Наше руководство полагало, что мы не задержимся в Афганистане: окажем помощь и покинем территорию сопредельного нам государства. К 1982 г. поняли, что мы сюда пришли надолго и надо обосновываться капитально. В гарнизонах к 1984 г. почти исчезли палатки и появились солдатские модули (казармы)», - рассказывает Фаниль Хазиханов [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 68].
Все необходимые стройматериалы были доставлены из Советского Союза. Каждый полк, батальон благоустраивал свою территорию самостоятельно. Были построены
казармы, бани, прачечные, хлебопекарни. Советским солдатам пришлось служить в суровых и непривычных условиях: «Невыносимая 50-70-градусная жара днем, -рассказал Н. Киршин, - ночью сменялась таким холодом, что приходилось топить печки-буржуйки» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 73]. Продукты питания были также привозными: «Все два года ели сухпай: кильки в томате, тушенка свиная, говяжья, мясо кенгуру из Австралии, перловка и еще раз перловка», - повествует Александр Щукин [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 62]. Была проблема снабжения свежими овощами. Супы и борщи готовили из консервированных запасов, компоты из сухофруктов. Спасительным напитком от жары и кишечных расстройств служил отвар верблюжьей колючки. Все были рады, когда появилась картошка: «Сначала сухая, разных видов: крупой и хлопьями. Качество ее было не ахти какое, но все-таки картошка. Потом из Союза привезли картофельную стружку. Она была намного лучше своих предшественниц. Мы научились ее даже жарить: сначала ее несколько часов вымачивали в воде, затем жарили. Вкус тоже был не очень, но все же это была жареная картошка», - вспоминает Н. Киршин [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 74].
Большую опасность таила афганская вода: «Подземные резервуары оказались природно-водными источниками брюшного тифа и гепатита. Эпидемии начались в конце лета. Осенью наше инфекционное отделение "раздулось" невероятно: вместо положенных 25 больных в отдельные периоды там лечилось до 700-800 солдат и офицеров!» [Хисамов, Гурьянова]. По словам Н. Киршина, санитары обеззараживали привозную, питьевую воду с помощью таблеток (патноцид1). Перед едой солдаты должны были продезинфицировать столовые приборы в хлорном растворе. И все же Н. Киршин дважды попадал в госпиталь. Перенес гепатит и брюшной тиф.
Не меньше «головной боли», чем болезни, военным медикам и их многочисленным пациентам доставляли вши. Несмотря на различные санитарные мероприятия, завшивленность в 40-й армии была страшная. Особенно распространены были вши среди шоферов. Постирать белье и помыться у них часто не было возможности: воды не хватало, белье меняли очень редко [Хисамов, Гурьянова].
Форма одежды солдат в Афганистане отличалась от обмундирования солдат, которые проходили срочную службу в СССР. Экипировка различалась в зависимости от сезона: летом носили комбинезон защитный сетчатый, осенью-весной «афганку» (полевая форма одежды), если могли достать, или стеганые куртки танкистов («танкач»); зимой - костюм для офицеров из полушерстяной ткани, бушлат зимний (рабочая одежда рядовых), зимний «танкач». То же касалось и обуви: «Офицеры летом в горы надевали кроссовки, предпочитали "Пуму" или "Адидас". Мы, сержанты и рядовые, носили что попроще. Например, "Кимры", очень прочные и удобные, -рассказывает Ильяс Фазылзянов, - ведь в кирзовых сапогах далеко не уйдешь» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 65]. Это свидетельствует о несоответствии стандартной формы тем условиям, в которых приходилось воевать.
1 Патноцид - дезинфицирующее средство, антисептик. Используется для дезинфекции воды в полевых условиях. Входит в состав Войсковой аптечки. Форма выпуска: таблетки. Содержат 8,2 мг пантоци-да, 3,6 г безводного натрия карбоната и 0,1 г натрия хлорида.
В воинских частях ограниченного контингента советских войск в Афганистане существовали неуставные отношения между солдатами, что приводило к нестандартным коммуникациям между военнослужащими в зависимости от срока службы. «Духи» - те, кто служит в части первые полгода, далее, переходя с низшей ступеньки на первую, они становятся «черпаками». «Черпаки» переходят в «деды», а значит - могут себе позволить поблажки в последние полгода перед демобилизацией. Когда до дембельского приказа остается 100 дней, «деды» становились «дембелями». Каждая категория имела свой набор прав и обязанностей. Переходы сопровождались определенными ритуалами посвящения.
По мнению Магомета Идрисова, «дедовщина в Афганистане была, но в разных частях и даже в разных подразделениях одной части она проявлялась по-разному. Это зависело от людей: если человек мог за себя ответить - издеваться над ним опасались, ведь когда выходили на боевые операции, каждый был с оружием. Лично я, когда был заместителем командира, не приветствовал у себя во взводе дедовщину. Молодые выполняли свои обязанности по уборке территории и так далее, но издеваться над ними я не позволял. Некоторые "деды" пытались мне объяснить, что это неправильно, что они "летали" и молодые должны "летать". На это я им отвечал, что здесь война - мы должны друг другу спины прикрывать». Так складывались взаимоотношения между служащими. Другие ветераны, например, Георгий Власенко и Леонид Жашков, отмечают, что своих «дедов» вспоминают только добром, «они в бою молодых прикрывали и оберегали». Но эти же респонденты указывают, что «в полку было несколько батарей, где молодым было очень плохо.» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 63].
Наши собеседники, отвечая на вопрос: «Как складывались Ваши отношения с сослуживцами?», рассказывали не только о дедовщине. С ностальгией ветераны говорят о том, что самое замечательное на войне - «это войсковое товарищество, это дружба солдатская: там тебя не предадут. Это в нашей, повседневной жизни могут тебя обмануть, бросить.» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 21].
Таким образом, мы можем заключить, что суровые реалии боевой обстановки сглаживали многие негативные проявления межличностных отношений, хотя «дедовщина» и существовала. В то же время проявлялись такие человеческие качества, как честность и прямота, взаимопомощь, готовность к самопожертвованию ради спасения товарищей. Анализ воспоминаний показывает, что именно эти качества оцениваются самими ветеранами как главный положительный итог участия в войне. Большинство опрошенных отмечают их дефицит в настоящее время.
В дни, когда не было боевых операций, находилось время для отдыха. Солдаты пели песни под гитару. Почти у каждого был солдатский блокнот, куда записывали тексты, стихи, адреса сослуживцев. Наиль Зиятдинов поделился воспоминаниями о свободном времени: «Увлеченно готовили "каву"1, построили стадиончик, ворота
1 Кава - вино.
с массетью1 и гоняли в футбол, занимались спортом. Читали много, книги искали везде. Старались сами развлекать себя, даже КВН и концерты устраивали» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 65].
Следующим аспектом в воспоминаниях участников Афганской войны были взаимоотношения с местным населением. Журналист, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова в своей статье «"Моджахед" и "шурави" объясняются в любви. Окончание» пишет, что на вопрос «Почему нас, бывших врагов, все еще любят в Афганистане?», простой афганец по имени Ахмад ей ответил: «Вы храбро дрались, вы нас убивали, а потом вы садились с нами за один стол. Вы никогда нами не брезговали. Русский был братом. Даже когда убивал» [Асламова]. Такое признание бывшего противника дорогого стоит.
Отношения между советскими солдатами и местными жителями складывались противоречиво. Общение зависело от нескольких факторов: во-первых, от характера военных действий, которые велись на конкретной территории; во-вторых, от принадлежности жителей кишлака к той или иной группировке; в-третьих, от поведения самих советских солдат, их умения учитывать специфику афганского менталитета.
«Проходим какой-то афганский кишлак. Там все тихо. По обеим сторонам дороги сидят на корточках афганцы. Не приветствуют. Колонну провожают молча, взглядом. Подходим к другому кишлаку. Там обстановка немного другая. На окраине нас приветствуют люди, проходим центр, тишина», - повествует И. Плетнев [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 61].
«Отношение этого народа к нам напрямую зависело от нашего отношения к ним, -вспоминает Наиль Нурулин, - в местах дислокации маневренных групп пограничных войск местные жители приходили смотреть фильмы, на день пограничника приносили барана, хотя. откуда они знали про этот праздник, до сих пор загадка. Там, где были ковровые бомбардировки, нас били, невзирая ни на что» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 67].
Отношения советских солдат к местному населению во время боевых операций во многом зависели от личного опыта. Инзер Усманов вспоминает: «С местным населением в тесный контакт не входили. При блокировке кишлака женщины, дети и старики пропускались беспрепятственно за пределы блока» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 70].
В то же время Виктор Серов рассказывает, что однажды во время подобной операции вышедшие за оцепление люди в парандже достали автоматы и обстреляли группу наших солдат. Оставшиеся в живых получили опыт, так как невозможно было заглянуть под паранджу и узнать кто там, ханум2 или замаскированный моджахед [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 66].
1 Массеть - маскировочная сеть.
2 Ханум - женщина.
Многие ветераны вспоминают доброжелательные отношения с местным населением. Солдаты, охраняя кишлаки от душманов, помогали мирным жителям по хозяйству, ведь в кишлаках находились в основном женщины, дети и старики. Например, Александр Гуров вспоминает: «Ехали мы мимо деревни. Дед, видимо, с внуками работали на поле с мотыгами. Помните, какие у них в горах поля были: из скалы горизонтальную площадку делали. Вот они ее и долбили. У меня на танке была подвешена лопата. Решили помочь: ведь все равно ехали мимо. Я отпустил лопату, танк пропахал землю. Так получилось, что на ночлег вернулись к этому кишлаку., вечером пришел дед с родней, пловом и лепешками» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 66]. Советские врачи безвозмездно лечили местных жителей. «В глухих горах нам на встречу как-то старик с ребенком на руках вышел. Пацан болел. Так наш доктор его к жизни возвращал.» - рассказывает Игорь Петров [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 65-66]. Жители кишлаков, с которыми установились дружеские отношения, помогали не только продуктами, но даже, как вспоминает Сергей Коротков, «указывали места мин, тропы, по которым духи ходили» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 67].
Однако далеко не всегда взаимоотношения с местными жителями складывались так гладко. Ветераны рассказывают и о многочисленных случаях вражды. Респондент описывает совершенно дикий случай, когда отправившихся в соседнюю деревню солдат убили и, вскрыв животы, набили их персиками. В чем причина? Солдаты воровали персики? В этой деревне жили душманы? Неизвестно. Определить, на чьей стороне жители того или иного кишлака, было практически невозможно. «Днем они могли работать в поле, а ночью брали автоматы и шли воевать», -вспоминает Н. Киршин [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 73].
Одной из причин проявлений враждебности являются различия в менталитете советских граждан и афганцев. Афганистан - многонациональное государство, на территории страны проживают разные племена, которые враждуют веками. Разобраться в этих запутанных отношениях было крайне сложно. Население страны невозможно было делить на мирных жителей и вооруженную оппозицию. Часто командование советских войск помогало местному населению оружием для охраны и обороны от нападений моджахедов. На деле же это оружие могло использоваться для сведения счетов с давними врагами. Афганцы из поколения в поколение растут в духе войны, в идеологии борьбы. «Мальчишки с детства воспитываются на культе силы, а игрушками зачастую служит настоящее оружие», - поделился впечатлениями Леонид Павленко [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 64-65].
К сожалению, советские военнослужащие не разбирались, да и не могли разбираться в таких тонкостях. Незнание местных национальных и религиозных особенностей порой стоило жизни. Как, например, в случае, описанном В. Серовым: «Афганец совершал намаз. Оказавшемуся рядом русскому солдату очень нужна была стоявшая рядом лопата. Спросив разрешения и не получив ответа, он воспользовался инструментом и быстро вернул его на место. По окончании молитвы местный житель вынул нож и зарезал удаляющегося парня. После этого случая в
части проводили разъяснительную работу о том, что нельзя прерывать местных жителей во время намаза» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 66]. Но погибшего было уже не вернуть. Таким образом, взаимоотношения солдат с местным населением были сложны и противоречивы. Это связано как с характером военных действий и поведением личного состава советских частей, так и с наличием внутренних противоречий между афганскими племенами и кланами и особенностями афганского менталитета.
Отношение к войне было и остается противоречивым: к самому факту войны - негативно, но нет ненависти к афганскому народу; вопрос о политической необходимости войны оценивается ветеранами как спорный. Остается осознание того, что солдаты выполняли свой воинский долг.
Афганская война оставила тяжелый след в душе каждого солдата. «Афганистан остался на всю жизнь! И прошлое всегда влияет на настоящее, да и на будущее тоже», - поделился с нами Виктор Высоцкий [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 70]. Хочется отметить, что наши собеседники очень неохотно шли на разговор, с трудом воскрешали в памяти воспоминания, в глазах появлялась тоска.
На наши вопросы: «Как вы относитесь к этой войне? Была ли нужна она?» респонденты отвечали по-разному: «Да, нужна. И вот почему: во-первых, для поддержания армии в действительно боевом состоянии; во-вторых, не допустить, чтобы противник близко подошел к нашим границам» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 22]; «Война нужна была политикам! Простым людям - нет!» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 60]; «На тот момент нам говорили, что мы защищаем рубежи нашей Родины, будто за какие-то буквально часы мы опередили американцев в вводе войск в Афганистан. На тот момент я проклинал эту службу, и хотелось, чтобы скорее закончилась эта служба и вернуться домой» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 59]; «Я выполнял свой интернациональный долг!» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 22]; «.Я это воспринимал не иначе как издевательство!» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 56]. Большинство же вообще уклонялись от ответа на этот вопрос.
После войны в душе «афганцев» не осталось чувства ненависти к этой «чужой стране», «чужому» народу, несмотря на все лишения и потери, которые довелось там испытать.
«Нам не хватало воздуха на горных перевалах, Мечтали о воде мы в пустыне Регистан, Кричали мы от боли на койках в медсанбатах,
Но все-таки по-доброму мы помним наш Афган.», - так поется в песне воина-«афганца» Юрия Слатова [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, л. 23].
Очень многие бывшие солдаты пишут, что хотят забыть эту войну («Я хочу все забыть!» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 78]), вот только сделать это не получается («Мы с войны никогда не вернемся.») [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 80].
«Солдат, свою жизнь только начав,
За твою, Афган, отдает!» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 23].
Человеку нелегко привыкнуть к войне - к ее опасностям и лишениям, к иной шкале жизненных ценностей и приоритетов. Адаптация к новой обстановке требует ломки прежних стереотипов сознания и поведения, без которой просто не выжить в экстремальных условиях, на грани жизни и смерти. Но и вернуться к спокойной, мирной жизни человеку, проведшему на фронте хотя бы несколько недель, не менее сложно; обратный процесс перестройки психики протекает столь же болезненно и порой затягивается на долгие годы. Такое состояние психологи называют афганским синдромом, а на языке самих ветеранов звучит так: «Еще не вышел из штопора войны» [Сенявская, 1999, с. 89].
«Нет войны и к себе тянет мирная жизнь,
Но вовеки, вовеки к ней не возвратиться.» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 77].
Общеизвестен факт, что многим воинам-интернационалистам очень тяжело далась послевоенная адаптация. Как отмечает в своей работе Е. Сенявская: «Они вели себя независимо в отношениях с вышестоящими и очень требовательно в отношениях с подчиненными, в общении с равными не терпели фальши и лицемерия, были чересчур прямолинейны. Таким образом, афганцы оказались "неудобными людьми" для всех, кто их окружал, и были вынуждены замыкаться в себе; многие становились алкоголиками и наркоманами; кое-кто кончал жизнь самоубийством» [Сенявская, 1999, с. 90].
Одним из главных факторов адаптации воинов-«афганцев» было отношение общества. Так как многих эта война не коснулась, люди не понимали, что пережили солдаты в Афганистане, и остались глухи к их проблемам. «Мы вас туда не посылали!» - слышали ветераны во многих официальных учреждениях. Положение усугублялось теми болезненными социально-экономическими процессами, которые проходили в 80-90-х гг. XX в.
Для нас примером адаптации послужили друзья и знакомые Н. Киршина. Вместе с ним из средней общеобразовательной школы № 118 г. Уфы, в которой он учился, на службу в Афганистан отправились 11 человек: Гайдар Гумеров, Марат Бакиров, Наиль Шакиров и Азат Сафиуллин и другие; из них смогли благополучно устроиться в жизни (жениться, обзавестись детьми, работой) семеро, судьба четверых сложилась трагично. На сегодняшний день шестеро человек умерли.
Многие отмечают, что в Афганистане впервые попробовали наркотики. Примером может служить воспоминание Галиба Омарова: «Когда наш отряд заходил в Афган, четыре парня из Душанбе знали, что такое анаша. А когда мы уходили на дембель, нас было четверо, которые не попробовали ее.» [НА РБ, ф. Р-1649, оп. 1, д. 3, с. 64]. Эта беда коснулась М. Бакирова. В Афганистане он начал употреблять наркотики, что перешло в зависимость. Все это привело к циррозу печени и дальнейшей смерти. М. Бакиров скончался в 1990 г.
Андрей Мотовилов всю жизнь работал водителем, и на войне он перевозил груз 2001, цинковые гробы с погибшими войнами-интернационалистами. Страшные воспоминания того времени негативно повлияли на психическое здоровье. После армии А. Мотовилов пристрастился к спиртным напиткам, и сердце не выдержало, он умер в 2003 г.
Рис. 3. А. Мотовилов стоит (личная коллекция респондента Н. Киршина) Fig. 3. A. Motovilov standing (personal collection of respondent N. Kirshin)
Оказание помощи ДРА превратилось в крупнейшую со времен Великой Отечественной войны военную операцию советских войск. Основную часть боевых задач решали солдаты срочной службы. Адаптацию к реалиям войны усугубляли суровые
1 Груз 200 - условное кодированное обозначение, применяемое при авиационной перевозке тела погибшего военнослужащего к месту захоронения. Обозначение цинкового гроба с телом погибшего солдата, в широком смысле погибшего.
природно-климатические условия Афганистана. Солдаты не могли служить в установленной военной форме СССР, так как она была не рассчитана на резкие перепады температур. Организация военной службы была несовершенна. Питание, по словам респондентов, было скудным, казармы солдаты строили себе сами, были распространены инфекционные заболевания.
Военнослужащие после непродолжительной подготовки в учебной части не были готовы к настоящей войне. На их долю выпало слишком много нечеловеческих переживаний. События войны воздействовали не только своей интенсивностью, но и частой повторяемостью. Многие именно в Афганистане столкнулись со смертью. Травмы, как физические, так и психологические, следовали одна за другой, так что у человека не было времени «прийти в себя».
Несмотря на все трудности, ограниченный контингент советских войск в Афганистане выполнял боевые задачи, проявлял отвагу и героизм. Процент погибших от общего числа проходивших службу в ДРА, невелик - 2,4%, но наша обязанность чтить память этих людей. По мнению наших респондентов, именно на войне многие из них поняли, что честность и прямота, взаимопомощь, готовность к самопожертвованию ради спасения товарищей являются положительным опытом участия в военном конфликте. Такие взаимоотношения складывались как внутри советских войск, так и с местным мирным населением.
С возвращением на Родину война для солдат не закончилась. Она продолжалась в их мыслях, воспоминаниях, снах. Адаптироваться в обществе, которое не знало и не понимало их страданий, оказалось очень сложно. Посттравматическое стрессовое расстройство настигает почти каждого ветерана боевых действий. Кто-то может с ним справиться и продолжает жить дальше, а другим нужна квалифицированная психологическая и медицинская помощь.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Андогский А.И., Дроздов Ю.И., Курилов В.Н., Бахтурин С.Г. Афган, снова Афган. М.: Воениздат, 2002. 105 с.
Арунова М.Р., Иваненко В.И. Афганская политика США в 1945-2014 гг. М.: РИСИ, 2015. 220 с.
Асламова Д.М. «Моджахед» и «шурави» объясняются в любви. Окончание. URL: https://www.ufa.kp.rU/daily/23812.4/60212/ (дата обращения - 28 января 2021 г.). Басов В.В. Национальное и племенное в Афганистане: к пониманию невоенных истоков афганского кризиса: сборник статей. М.: НИЦ ФСКН России, 2011. 353 с. Громов Б.В. Ограниченный контингент [советские войска в Афганистане]. М.: Прогресс, 1994. 351 с.
Жемчугов А.А. Кому мы обязаны «Афганом». М.: ВЕЧЕ, 2012. 390 с.
Книга памяти о советских войнах, погибших в Афганистане. Под ред. В.И. Бологов. М.: Воениздат, 1999. Т. 2. 712 с.
Костыря А.А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в Афганистане (1979-1989 гг.). Киев: МИЦ Мединформ, 2008. 596 с. Ляховский А.А. Трагедия и доблесть Афгана. М.: Искона, 1995. 720 с. Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. Р-1649, Оп. 1. Д. 3. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд поддержки социальных и гражданских инициатив «Ветеран». (Б.д.). URL: http://www.penza-veteran. ru/examples/index1.php?ELEMENT_ID=422 (дата обращения - 28 января 2021 г.). Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ в.: Исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 382 с.
Топорков В.М. Афганистан: советский фактор в истоках кризиса. Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2014. 319 с.
Умнов А.Ю. В фокусе Афганистан // Вестник МГИМО Университета. 2010. № 2(11) С. 124-132.
Хисамов А., Гурьянова Т. Афганская болезнь. URL: https://www.agentura.ru/terrorism/ usa11sep/malade/?print=Y (дата обращения - 28 января 2021 г.).
REFERENCES
Andogskij A.I., Drozdov Yu.I., Kurilov V.N., Bahturin S.G. Afgan, snova Afgan... [Afghan,
Afghan again.]. Moscow: Voenizdat Publ., 2002. 105 p. (in Russian).
Arunova M.R., Ivanenko V.I. Afganskaya politika SSHA v 1945-2014 gg. [US Afghan policy
in 1945-2014]. Moscow: RISI Publ., 2015. 220 p. (in Russian).
Aslamova D.M. "Modzhahed"i "shuravi"ob'yasnyayutsya v lyubvi. Okonchanie
["Mujahid" and "Shuravi" declare their love. The ending]. URL: https://www.ufa.kp.ru/
daily/23812.4/60212/ (accessed 28 January 2021).
Basov V.V. Nacional'noe i plemennoe v Afganistane: k ponimaniyu nevoennyh istokov afganskogo krizisa: sbornik statej [National and Tribal in Afghanistan: Towards Understanding the Nonmilitary Origins of the Afghan Crisis: A Collection of Articles]. Moscow: NIC FSKN Rossii Publ., 2011. 353 p. (in Russian).
Gromov B.V. Ogranichennyj kontingent [sovetskie vojska v Afganistane] [Limited contingent of Soviet troops in Afghanistan]. Moscow: Progress Publ., 1994. 351 p. (in Russian). Elizare A. Ryadovoj dlya Afganistana [Private for Afghanistan]. Moscow: Litres Publ., 2018. 601 p. (in Russian).
Zhemchugov A.A. Komu my obyazany "Afganom" [To whom do we owe "Afgan"]. Moscow: VECHE Publ., 2012. 390 p. (in Russian).
Kniga pamyati o sovetskih vojnah, pogibshih v Afganistane [Book of memory of the Soviet wars who died in Afghanistan]. Ed. by Bologov V.I. Moscow: Voenizdat Publ., 1999. Vol. 2. 712 p. (in Russian).
Kostyrya A.A. Istoriografiya, istochnikovedenie, bibliografiya specoperacii SSSR v Afganistane (1979-1989 gg.) [Historiography, source study, bibliography of the USSR special operations in Afghanistan (1979-1989)]. Kiev: MIC Medinform Publ., 2008. 596 p. (in Russian).
Lyahovskij A.A. Tragediya i doblest'Afgana [The tragedy and valor of Afgan]. Moscow: Iskona Publ., 1995. 720 p. (in Russian).
National Archives of the Republic of Bashkortostan (NA RB). F. R-1649, Inv. 1. D. 3. Penzenskij regional'nyj obshchestvennyj blagotvoritel'nyj fond podderzhki social'nyh i grazhdanskih iniciativ "Veteran" [Penza Regional Public Charitable Foundation for Support of Social and Civil Initiatives "Veteran"]. URL: http://www.penza-veteran.ru/examples/ index1.php?ELEMENT_ID=422 (accessed 28 February 2021). Senyavskaya E.S. Psihologiya vojny v XX v.: Istoricheskij opyt Rossii [The Psychology of War in the 20th Century: The Historical Experience of Russia]. Moscow: ROSSPEN Publ., 1999. 382 p. (in Russian).
Toporkov V.M. Afganistan: sovetskij faktor v istokah krizisa [Afghanistan: the Soviet factor at the origins of the crisis]. Cheboksary: CNS "Interaktiv plyus" Publ., 2014. 319 p. (in Russian).
Umnov A.Yu. V fokuse Afganistan [Focus on Afghanistan], in Vestnik MGIMO Universiteta. 2010. No 2(11). Pp. 124-132 (in Russian).
Hisamov A., Gur'yanova T. Afganskaya bolezn' [Afghan disease]. URL: http://studies. agentura.ru/tr/usa11sep/malade/ (accessed 28 February 2021).
Статья принята к публикации 15.05.2021





 CC BY
CC BY
 211
211