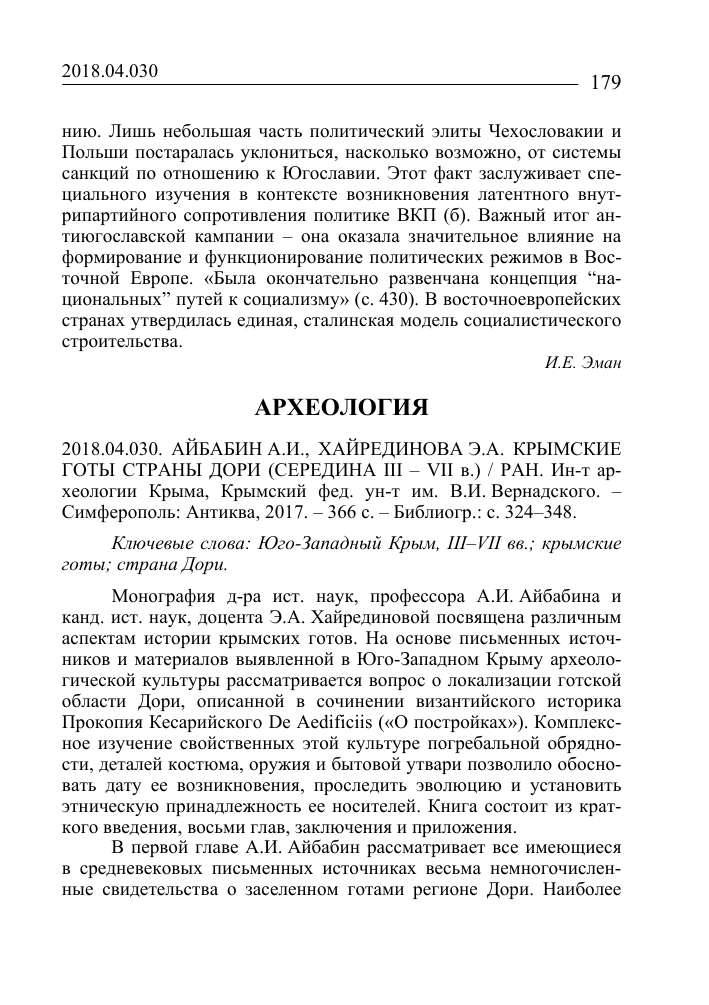нию. Лишь небольшая часть политический элиты Чехословакии и Польши постаралась уклониться, насколько возможно, от системы санкций по отношению к Югославии. Этот факт заслуживает специального изучения в контексте возникновения латентного внутрипартийного сопротивления политике ВКП (б). Важный итог антиюгославской кампании - она оказала значительное влияние на формирование и функционирование политических режимов в Восточной Европе. «Была окончательно развенчана концепция "национальных" путей к социализму» (с. 430). В восточноевропейских странах утвердилась единая, сталинская модель социалистического строительства.
И.Е. Эман
АРХЕОЛОГИЯ
2018.04.030. АЙБАБИН А.И., ХАЙРЕДИНОВА Э.А. КРЫМСКИЕ ГОТЫ СТРАНЫ ДОРИ (СЕРЕДИНА III - VII в.) / РАН. Ин-т археологии Крыма, Крымский фед. ун-т им. В.И. Вернадского. -Симферополь: Антиква, 2017. - 366 с. - Библиогр.: с. 324-348.
Ключевые слова: Юго-Западный Крым, Ш-У11 вв.; крымские готы; страна Дори.
Монография д-ра ист. наук, профессора А.И. Айбабина и канд. ист. наук, доцента Э.А. Хайрединовой посвящена различным аспектам истории крымских готов. На основе письменных источников и материалов выявленной в Юго-Западном Крыму археологической культуры рассматривается вопрос о локализации готской области Дори, описанной в сочинении византийского историка Прокопия Кесарийского Бе Ае&Асш («О постройках»). Комплексное изучение свойственных этой культуре погребальной обрядности, деталей костюма, оружия и бытовой утвари позволило обосновать дату ее возникновения, проследить эволюцию и установить этническую принадлежность ее носителей. Книга состоит из краткого введения, восьми глав, заключения и приложения.
В первой главе А.И. Айбабин рассматривает все имеющиеся в средневековых письменных источниках весьма немногочисленные свидетельства о заселенном готами регионе Дори. Наиболее
пространным среди них является сообщение Прокопия, который, повествуя о строительной деятельности императора Юстиниана I (527-565) на побережье Эвксинского Понта, помещал область Дори в горной местности между Херсоном и Боспором, в том же прибрежном регионе, где были возведены крепости Алуста и Горзуви-ты. В конце VII в. и позднее об области Дори писали как о соседней с Херсонесом стране готов. Согласно церковным источникам, до конца VII в. приходы Дори подчинялись епископу Херсонеса, а во второй половине VIII в. город Дорос фигурирует уже в качестве центра особой Готской епархии и крепости Готии (с. 9).
Обращаясь во второй главе к истории изучения области Дори, А.И. Айбабин отмечает тот факт, что проблемы этнического состава населения раннесредневекового Крыма до сих пор остаются предметом острых дискуссий. Сторонники полярных взглядов долгое время видели в обитателях Дори либо только готов, либо полностью отрицали их присутствие на полуострове. Объективному изучению этого вопроса нередко мешали соображения идеологической и политической целесообразности. Археологи, проводившие раскопки раннесредневековых некрополей на Южном берегу и в Юго-Западном Крыму в период от 1870-х до 1930-х годов, обращали внимание на сходство найденных там орлиноголовых пряжек и фибул с соответствующими вещами из захоронений германцев в Западной Европе и Скандинавии. А поскольку данные письменных источников о присутствии готов в Крыму не вызывали сомнений, то и открытые на юго-западе полуострова памятники были однозначно с ними ассоциированы (с. 14).
Война СССР с Германией 1941-1945 гг. привела к существенному пересмотру этнической истории Крыма раннего Средневековья, из которой готы практически исчезли. Со второй половины 1950-х годов в ее изучении наметились два направления. Сторонники первого из них, склонные к автохтонной теории, активно отстаивали ведущую роль тавро-скифов в данном регионе и после III в. н.э. Другое направление акцентировало внимание на роли миграций. Развернувшиеся в 1950-х - первом десятилетии 2000-х годов масштабные археологические исследования раннесредневеко-вых памятников в Юго-Западном Крыму существенно расширили источниковую базу изучения этнических процессов на полуострове
и вывели на новый уровень дискуссии о локализации области Дори и этническом составе ее населения (с. 21).
В третьей главе А.И. Айбабин рассматривает материалы, документирующие миграции германцев и алан в Равнинный и Горный Крым в середине III в. К этому времени, отмечает автор, территория полуострова, как и в предшествующий период, была разделена между Позднескифским царством, Херсонесом и Бос-порским царством. Однако в 40-е годы III в. римляне, вынужденные принять меры к укреплению границы Империи на Дунае, вывели свои гарнизоны из Горного Крыма. Позднескифское царство лишилось военной поддержки Рима, что привело к коренному изменению политической и этнической ситуации в регионе. Первоначально готы и аланы вторглись в Северо-Западный Крым, где следы их пребывания обнаружены в верхнем слое оставленного скифами Южно-Донузлавского поселения. Продвинувшись до третьей гряды Крымских гор, германцы уничтожили позднескиф-ское государство и большую часть его населения, разрушив в Предгорном Крыму столицу скифов Неаполь, ряд городищ (Усть-Альма, Алма-Кермен и др.) и поселений. В то же время во второй половине III в. в ряде районов Горного Крыма, а именно на границе хоры Херсонеса в низовьях рек Черная и Бельбек, у склонов третьей гряды, на Южном берегу, формируется новая археологическая культура, представленная поселениями и могильниками с кремациями и ингумациями (с. 33).
Анализу материалов археологических памятников германцев и алан второй половины III - IV в. в Юго-Западном Крыму посвящена четвертая глава, написанная А.И. Айбабиным совместно с Э.А. Хайрединовой. Как отмечают авторы, погребения с кремациями, исследованные на склоне Чатыр-Дага, близ Харакса, в Парте-ните и на Черной речке, по погребальному обряду и инвентарю аналогичны одновременным германским захоронениям, раскопанным в некрополях черняховской культуры в Северном Причерноморье и в Польше на территории пшеворской и вельбарской культур. Все это позволяет связать крымские памятники данной категории с германцами. Погребения с ингумациями в т-образных склепах и подбойных могилах по целому ряду признаков аналогичны аланским захоронениям Предкавказья и, следовательно,
должны рассматриваться как аланские. Время возникновения в Юго-Западном Крыму германских и почти всех аланских некрополей - около середины III в. - согласуется с информацией письменных источников о миграции готов и алан на территорию полуострова. Обнаруженные в их захоронениях многочисленные импортные предметы, краснолаковая посуда, амфоры и стеклянные сосуды свидетельствуют об активной торговле местного населения с Бос-пором и Херсонесом, а через гавань последнего - со многими другими городами Восточной Римской империи (с. 59).
В пятой главе «Юго-Западный Крым в эпоху Великого переселения народов» А.И. Айбабин и Э.А. Хайрединова рассматривают последствия вторжения в Крым гуннов. В конце IV - начале V в. после захвата ими крымских равнин и предгорий обитавшие там аланы вынуждены были оставить свои некрополи в Нейзаце, Дружном и Перевальном и переселиться вглубь горного региона, занятого с середины III в. родственными им племенами и германцами. На рубеже IV-V вв. в речных поймах и на склонах Внутренней гряды, а также на южных склонах Главной гряды возникают новые некрополи. Их материалы демонстрируют начало процесса христианизации варваров Юго-Западного Крыма. Христианство распространялось из Херсонеса, являвшегося главным экономическим партнером, населявших этот регион готов и алан. Христианизация стимулировала ассимиляционные процессы. В середине V в. готы отказались от использования традиционного для них погребального обряда кремации и переняли у алан более приемлемый для новой религии обряд ингумации в склепах (с. 117).
Археологическая культура населения области Дори VI-VII вв., как отмечают в шестой главе А.И. Айбабин и Э.А. Хайрединова, характеризуется абсолютным доминированием т-образных в плане склепов с коротким дромосом. По сравнению с предшествующим периодом значительно снижается количество сосудов в захоронениях, что, как и некоторые другие изменения в погребальном обряде, безусловно, объясняется влиянием христианства. Тем не менее в них еще встречается краснолаковая посуда, амфоры из красной глины, стеклянные чаши, бутылки, кувшины. Поскольку умерших хоронили в прижизненной, зачастую в парадной одежде, в погребениях широко представлены металлические детали мужского и
женского костюма, главным образом элементы поясной гарнитуры, металлические детали обуви, типичные для восточногерманского женского костюма орлиноголовые пряжки и фибулы, а также украшения из серебра и бронзы (броши, браслеты, перстни и серьги). Из предметов вооружения в мужских захоронениях встречаются однолезвийные и двулезвийные мечи. С середины VI в. среди алан и готов получают распространение пряжки и перстни с христианской символикой (с. 149-156).
К построенным Юстинианом длинным стенам, перекрывшим, согласно Прокопию, доступ врагам в область Дори, возможно, относятся остатки укреплений у подножия плато Мангуп, блокировавшие балку Каралез, а также цитадели на плато Бакла, Эски-Кермен и Чуфут-Кале. Важную роль в оборонительной системе крепости Эски-Кермен, основанной в конце VI в., играли пещерные башни и казематы, вырубленные в скальном массиве, между которыми по краю плато проходили двухпанцирные стены. Подобная система, как отмечают авторы, характерна для многих ранневизан-тийских горных крепостей. В течение VII в. крепость Эски-Кермен превратилась в небольшой город с сеткой кварталов правильной прямоугольной формы и главной улицей, проложенной между главными воротами и центральной площадью, на которой располагалась большая трехнефная базилика (с. 166). Однако, с точки зрения авторов, отождествлять его с Доросом нет оснований, поскольку, согласно Присциану, этот центр был построен еще до начала правления Юстиниана I. На роль Дороса, по мнению исследователей, есть больше оснований претендовать у цитадели на плато Мангуп (с. 300-301).
По конструкции погребальных сооружений, обряду захоронения и инвентарю крепостной некрополь Эски-Кермен, впрочем, как и Мангупа, Чуфут-Кале и прочих фортов, не отличался от других известных гото-аланских могильников области Дори. Следовательно, гарнизоны крепостей, скорее всего, набирались из членов ближайших общин алан и готов, а само благосостояние обитателей Юго-Западного Крыма при Юстиниане I, как о том сообщает Про-копий, основывалось не только на земледелии и скотоводстве, но и на военной службе Империи. Об этом свидетельствуют многочисленные захоронения мужчин с византийскими воинскими гераль-
дическими поясными наборами на оставленных аланами и готами некрополях (с. 171).
В седьмой главе Э.А. Хайрединова анализирует археологические материалы, позволяющие судить об основных компонентах, особенностях и типологии женского костюма второй половины VI -VII в. в Юго-Западном Крыму. Как показывает автор, костюм, главными элементами которого были широкий пояс с большой поясной пряжкой и пара одинаковых фибул на плечах, в первой половине V в. под влиянием римской провинциальной моды стал популярен в среде полиэтничной варварской аристократии, а в VI в. сохранился только у визиготов, остготов и готов Крыма. В Юго-Западном Крыму этот тип одежды распространяется во второй половине V в., тогда как до этого в местном женском костюме наблюдается преемственность с аланской традицией украшения одежды нашивными бляшками. Однако местные мастера, взяв за образцы восточногерманские изделия из Подунавья и Северной Италии, выработали свои формы аксессуаров, украшенные в своеобразном стиле. В костюме с большой пряжкой прослеживается также и влияние византийской моды. А во второй половине VII в. оно возрастает настолько, что в некоторых гарнитурах место больших пряжек занимают шарнирные застежки, и в конце VII - первой половине VIII в. по одежде крымские готки не отличались от жительниц любой византийской провинции (с. 271).
В восьмой главе «Область Дори в VI-VII вв.» А.И. Айбабин отмечает, что все исследованные в Юго-Западном Крыму памятники этого времени, несомненно, принадлежат одной культуре, оставленной смешанным гото-аланским населением. Она располагалась между Внешней и Главной грядами Крымских гор (от устья Черной речки и Балаклавы до склонов Демерджи и Чатыр-Дага) и на южных склонах Главной гряды (в окрестностях Алушты, близ Гурзуфа, Ялты, Ореанды и Симеиза). Строительство крепостей на плато Эски-Кермен, Бакла и Чуфут-Кале в конце VI в., по мнению автора, связано с непосредственным включением населенной аланами и готами союзной области Дори в состав Империи и подчинением ее дуке Херсонеса. Область была разделена на архонтии (климаты), центрами которых стали указанные крепости. Греческие эпитафии и граффити на керамике и архитектурных деталях из
Горного Крыма свидетельствуют о распространении среди алан и готов греческого языка и греческой письменности.
Вместе с тем, как показала Д. А. Шалыга (см.: Приложение: «Язык крымских готов», с. 310-322), средневековые письменные источники дают основание говорить о длительном сохранении у крымских готов своего языка и фиксируют его ограниченное применение и постепенное исчезновение в XVI в.
В начале VIII в. хазары, воспользовавшись военным превосходством в регионе, захватили климаты Херсонеса. Вероятно, каган объединил архонтии (климаты) Горного Крыма в новую «провинцию», получившую название «Готия» (с. 309).
А.Е. Медовичев
2018.04.031 ДВУРЕЧЕНСКИЙ О.В. ТУШИНСКИЙ ЛАГЕРЬ: (ПУБЛИКАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ В.А. ПОЛИТКОВСКОГО ИЗ СОБРАНИЯ ГИМ). - М.: ИА РАН, 2018. - 196 с. - Библиогр.: с. 52-54.
Ключевые слова: Лжедмитрий II; Тушинский лагерь как памятник материальной культуры; коллекция В.А. Политковского из собрания ГИМ.
В книге канд. ист. наук О.В. Двуреченского рассматривается уникальная для средневековой археологии коллекция предметов материальной культуры, принадлежавших обитателям Тушинского лагеря - «столицы» Лжедмитрия II в 1608-1610 гг. В конце XIX -начале XX в. при прокладке Московско-Виндавской железной дороги лагерь был частично разрушен. Но инженером В.А. Политковским на его территории и в ближайшей округе была собрана коллекция вещей, которая затем была передана на хранение в Государственный исторический музей. Их классификация и создание первичных типологических схем является основной задачей данной работы. Книга состоит из введения, 11 разделов и заключения.
Тушинский лагерь, как отмечает во введении автор, представляет собой сложный для интерпретации памятник с довольно специфической материальной культурой. С одной стороны - это военный лагерь, имевший характерные для своего времени укрепления и, как следствие, соответствующую материальную культуру, представленную предметами не только русского военного снаря-





 CC BY
CC BY 53
53