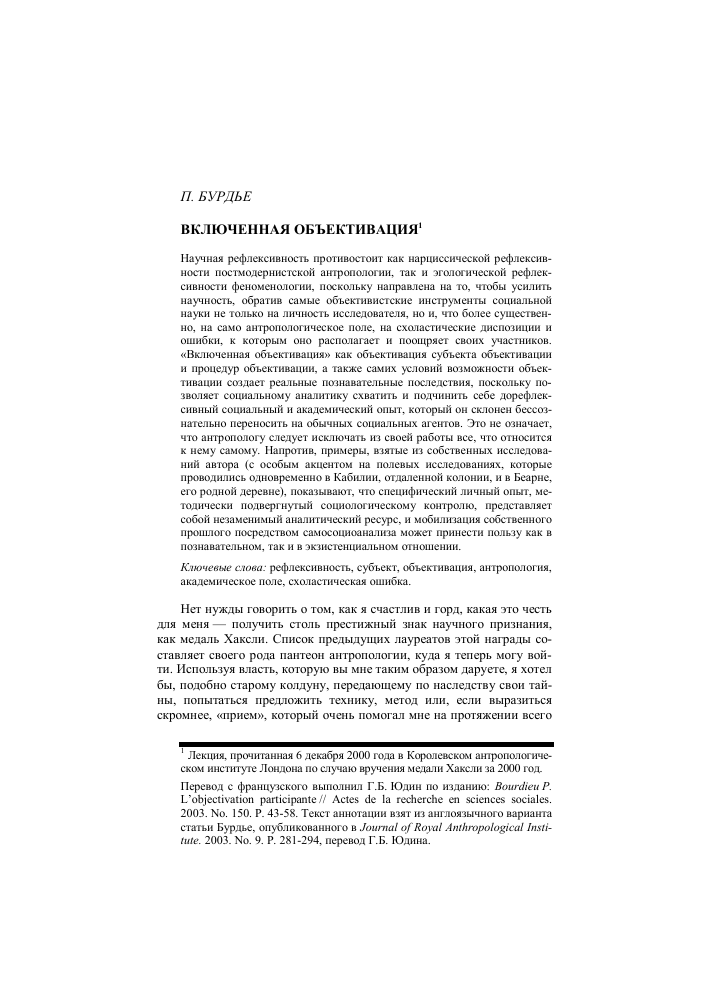П. БУРДЬЕ
ВКЛЮЧЕННАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ1
Научная рефлексивность противостоит как нарциссической рефлексивности постмодернистской антропологии, так и эгологической рефлексивности феноменологии, поскольку направлена на то, чтобы усилить научность, обратив самые объективистские инструменты социальной науки не только на личность исследователя, но и, что более существенно, на само антропологическое поле, на схоластические диспозиции и ошибки, к которым оно располагает и поощряет своих участников. «Включенная объективация» как объективация субъекта объективации и процедур объективации, а также самих условий возможности объективации создает реальные познавательные последствия, поскольку позволяет социальному аналитику схватить и подчинить себе дорефлек-сивный социальный и академический опыт, который он склонен бессознательно переносить на обычных социальных агентов. Это не означает, что антропологу следует исключать из своей работы все, что относится к нему самому. Напротив, примеры, взятые из собственных исследований автора (с особым акцентом на полевых исследованиях, которые проводились одновременно в Кабилии, отдаленной колонии, и в Беарне, его родной деревне), показывают, что специфический личный опыт, методически подвергнутый социологическому контролю, представляет собой незаменимый аналитический ресурс, и мобилизация собственного прошлого посредством самосоциоанализа может принести пользу как в познавательном, так и в экзистенциальном отношении.
Ключевые слова: рефлексивность, субъект, объективация, антропология, академическое поле, схоластическая ошибка.
Нет нужды говорить о том, как я счастлив и горд, какая это честь для меня — получить столь престижный знак научного признания, как медаль Хаксли. Список предыдущих лауреатов этой награды составляет своего рода пантеон антропологии, куда я теперь могу войти. Используя власть, которую вы мне таким образом даруете, я хотел бы, подобно старому колдуну, передающему по наследству свои тайны, попытаться предложить технику, метод или, если выразиться скромнее, «прием», который очень помогал мне на протяжении всего
1 Лекция, прочитанная 6 декабря 2000 года в Королевском антропологическом институте Лондона по случаю вручения медали Хаксли за 2000 год.
Перевод с французского выполнил Г.Б. Юдин по изданию: Bourdieu P. L'objectivation participante // Actes de la recherche en sciences sociales. 2003. No. 150. P. 43-58. Текст аннотации взят из англоязычного варианта статьи Бурдье, опубликованного в Journal of Royal Anthropological Institute. 2003. No. 9. P. 281-294, перевод Г.Б. Юдина.
моего исследовательского опыта: я называю его «включенной объективацией». Я говорю именно об «объективации», а не о «включенном наблюдении», как говорят обычно. Включенное наблюдение, насколько я понимаю, обозначает поведение этнолога, который погружается в чужой социальный универсум с тем, чтобы наблюдать какую-либо деятельность, ритуал или церемонию и при этом, в идеале, принимать в ней участие. Часто указывают на сложность такой позиции, поскольку она предполагает некоторое с трудом переносимое раздвоение сознания. Как можно быть одновременно субъектом и объектом — тем, кто действует, и тем, кто в некотором смысле смотрит на себя действующего? Ясно только то, что совершенно правы те, кто ставят под сомнение возможность в действительности участвовать в чужих практиках, вписанных в традиции другого общества и потому требующих другого обучения, отличного от того, продуктом которого являются наблюдатель и его собственные диспозиции, а стало быть, и другого способа существования и проживания того опыта, в котором он желает принять участие.
Под включенной объективацией я понимаю объективацию субъекта объективации, анализирующего субъекта — короче, самого исследователя. Может показаться, что я имею в виду ту практику, которую несколько лет назад ввели в моду некоторые антропологи, в основном по ту сторону Атлантики — практику, которая состоит в наблюдении себя наблюдающего, в наблюдении наблюдателя за его работой наблюдения или регистрации своих наблюдений в ходе и посредством возвращения к полевому опыту, к отношениям с информантами и, last but not least2, к повествованию обо всем этом опыте, что часто приводит к довольно безрадостному заключению, что все это, в конечном счете, лишь дискурс, текст или, того хуже, повод для текста (prétexte à texte).
Как видите, я не испытываю никакой симпатии к «diary disease3», как ее вслед за Роланом Бартом называет Клиффорд Гирц [21, p. 89], этой вспышке нарциссизма, доходящей почти до эксгибиционизма, ставшей ответом на долгие годы позитивистского вытеснения: рефлексивность, как я ее понимаю, не имеет ничего общего ни с «текстуальной рефлексивностью», ни со всеми вычурными соображениями о «герменевтическом процессе культурной интерпретации» и конструировании реальности в этнографических записях. Она совершенно противоположна даже наивному наблюдению наблюдателя, который, как это происходит у Маркуса и Фишера [22], или у Розальдо [23], или даже у самого Гирца, стремится вместо столкновения со сложной
2 Last but not least (англ.) — последнее, но оттого не менее важное. Здесь
и далее курсив П. Бурдье. — Прим. ред.
3 «Diary disease» (англ.) — «дневниковая болезнь». — Прим. ред.
текстурой поля (terrain) получить нехитрое наслаждение от самоисследования. Это псевдорадикальное изобличение этнографического письма как «поэтики и политики» (как гласит название книги под редакцией Клиффорда и Маркуса [27]) неизбежно приводит к «интер-претативному скептицизму», о котором говорит Вулгар [26], если не к аварийной остановке всего антропологического предприятия, которую затевают Гупта и Фергюсон [9].
Однако в то же время недостаточно и просто раскрыть «переживание» (expérience vécue)4 познающего субъекта, как того требует Эл-вин Гоулднер [6], то есть биографические особенности исследователя или тот Zeitgeist5, который вдохновляет его на работу (как делает сам Гоулднер, говоря о Толкотте Парсонсе в «Грядущем кризисе западной социологии»), или же, как делают этнометодологи, продемонстрировать те folk theories6, которые агенты закладывают в свои практики. На самом деле, помимо того, что наука не может ограничиться регистрацией и анализом «предпонятий» (в смысле Дюркгейма), которые социальные агенты используют при конструировании социальной реальности, она не может и не считаться с социальными условиями производства этих предконструкций и самих социальных агентов, которые эти предконструкции производят.
Короче говоря, не следует выбирать между включенным наблюдением, этим неизбежно фиктивным погружением в чужую среду, и объективизмом «отстраненного взгляда» наблюдателя, который столь же далек от себя самого, как и от своего объекта. Включенная объективация ставит перед собой задачу исследовать не «переживание» познающего субъекта, но социальные условия возможности этого переживания (а значит, его следствия и пределы), или точнее — акта объективации. Она нацелена на объективацию субъективного отношения к объекту, которая вовсе не ведет к релятивистскому субъективизму, в той или иной степени антинаучному, но является одним из условий научной объективности [19].
На самом деле, речь идет об объективации не антрополога, который осуществляет антропологический анализ чужого мира, но социального мира, который создал и антрополога, и ту сознательную или бессознательную антропологию, которую антрополог использует в своей антропологической практике; не только среды, из которой он происходит, его позиции и траектории в социальном пространстве, его социальной и религиозной принадлежности, его возраста, пола,
4 Expérience vécue — французский эквивалент немецкого Erlebnis (переживание), одного из ключевых терминов философии жизни и феноменологии. — Прим. перев.
5 Zeitgeist (нем.) — дух времени. — Прим. ред.
6 Folk theories (англ.) — обыденные, «народные» теории. — Прим. ред.
национальности и т. д., но также и прежде всего его конкретной позиции в микромире антропологов. В действительности, имеются научные подтверждения того, что наиболее важные научные решения антрополога (относительно выбора темы, метода, теории и т. д.) очень сильно зависят от позиции, которую он занимает в своем профессиональном мире (я называю его антропологическим полем (champ) со всеми его традициями и национальными особенностями, складом мышления, обязательной для обсуждения проблематикой, разделяемыми верованиями и очевидностями, ритуалами, ценностями и их подтверждениями; ограничениями, регламентирующими публикацию результатов; особыми запретами и, следовательно, с ошибками (biais), вписанными в организационную структуру дисциплины, то есть в коллективную историю специальности; а также со всеми неосознанными допущениями, присущими (национальным) категориям научного рассудка.
В тех характеристиках, которые обнаруживает этот рефлексивный анализ, полностью противоположный интимистскому самодовольному возврату к сингулярной и частной личности антрополога, нет ничего сингулярного и еще меньше необыкновенного; поскольку они являются общими для целых классов исследователей (как, например, факт обучения в определенной школе или в определенном университете), для наивного любопытства в них мало «интригующего». (Здесь можно вслед за Витгенштейном сказать: «Все, чего мы достигаем, это, по сути, замечания по естественной истории людей; притом, не добывание диковин, а констатация того, в чем никто не сомневался, что избежало нашего внимания только потому, что постоянно было перед глазами» [3, c. 209].) И их обнаружение и публичная демонстрация часто выглядят как святотатственная трансгрессия, главным образом потому, что тем самым ставится под сомнение то представление о собственной харизме, которым обычно обладают производители культуры, а также их склонность считать себя свободными от всякого социального принуждения.
Именно поэтому среди всех моих книг самой скандальной, самой противоречивой стала Homo academicus [14], несмотря на то, что она отличается предельной заботой об объективности: ведь она объективирует тех, кто обычно объективирует, она разоблачает и предает огласке посредством трансгрессии (которая выглядит как предательство) объективные структуры социального микромира, частью которого является сам исследователь, то есть те структуры, которые в научном и политическом пространстве определяют позиции профессоров парижских университетов, противопоставляя, к примеру (на момент исследования), Ролана Барта Раймону Пикару, так сказать, сквозь их личности, а «литературную семиологию», которая представляется авангардом, — традиционной истории литературы на манер Лансона.
И в этом насилии, совершаемом включенной объективацией, можно пойти даже чуть дальше вместе с одним из моих учеников, Шарлем Сулье [24], который показал, что, например, тематика исследований (дипломов, диссертаций и т. д.) по философии и социологии (и по антропологии, без сомнения, тоже) статистически связана с социальным происхождением и социальной траекторией, гендером и особенно с образовательной траекторией. Это говорит о том, что принцип, по которому мы принимаем по видимости наиболее личные, наиболее интимные, а потому наиболее важные для нас решения, касающиеся выбора дисциплины, предпочтений в исследовательской тематике (к примеру, экономическая антропология или исследование родства, Африка или Восточная Европа), теоретических и методологических установок, следует искать в социально сформированных диспозициях, в которых, в свою очередь, проявляются (в более или менее измененной форме) банальные социальные характеристики, до обидного безличные.
Вот так, говоря о включенной объективации, я незаметно перешел от антропологии к социологии, а точнее — к социологии института науки, которой я занимался в Homo academicus. Нужно ли говорить, что объектом здесь только по видимости являются французские университеты, а на самом деле речь идет о том, чтобы постичь самого субъекта объективации (в данном случае меня самого), его позицию в том относительно автономном социальном пространстве, которым является академический мир со своими собственными законами, несводимыми к законам окружающего мира, и своей особой точкой зрения? Но часто забывают или не понимают, что точка зрения — это, строго говоря, то, что видно с некоторой точки, которая не видна в качестве таковой и не может обнаружить свою истину, состоящую в том, что она есть лишь точка зрения — конкретная, не сводимая ни к какой другой и, в конечном счете, уникальная — если только не удастся парадоксальным образом реконструировать то пространство, которое простирается как совокупность сосуществующих точек (почти по Стросону) и в которое эта точка зрения включена.
А чтобы показать, что необычно в том повороте (renversement), который кажется таким банальным и дает возможность обрести точку зрения на собственную точку зрения и, следовательно, на ту совокупность точек зрения, по отношению к которым она определяет себя как точка зрения, я хотел бы просто вспомнить здесь рассказ «Человек в зоологическом саду» Дэвида Гарнетта [5], о котором я часто думал в связи с тем, что я предпринял в Homo academicus: как вы помните, речь там идет о молодом человеке, который поссорился со своей подружкой во время похода в зоопарк и в отчаянии написал директору зоопарка, предложив ему млекопитающее, которого в зоопарке не хватало — человека, то есть себя самого. Его поместили в клетку рядом с шимпанзе, прикрепив табличку: «Homo sapiens. Человек. Данный
экземпляр родился в Шотландии и был преподнесен в дар Джоном Кроманти, эсквайром. Посетителей просим не досаждать человеку комментариями личного характера». Мне стоило поместить подобное предостережение в Homo academicus, чтобы избежать хотя бы части тех «комментариев личного характера», далеко не всегда дружелюбных, которых он мне стоил...
Вы видите, что рефлексивность, к которой приводит включенная объективация, не имеет ничего общего с той, которую обычно практикуют «постмодернистские» антропологи или даже с той, что существует в философии и некоторых версиях феноменологии. Применяя в отношении познающего субъекта наиболее жестокие, наиболее объективистские инструменты объективации, которые дают антропология и социология, в особенности статистический анализ (незаметно исключенный из антропологического арсенала), эта рефлексивность стремится, как я уже говорил, обнаружить все то, чем мышление антрополога (или социолога) обязано факту его включенности в национальное научное поле с соответствующими традициями, складом мышления, проблематикой, разделяемыми очевидностями и т. д., а также тому факту, что он занимает определенную позицию (позицию новичка, который должен зарекомендовать себя, или позицию признанного мастера и т. д.) с «интересами» определенного рода, которые могут на бессознательном уровне направлять его научные решения (выбор дисциплины, метода, объекта и т. д.).
Короче говоря, научная объективация не бывает полной, если она не включает точку зрения осуществляющего ее субъекта и ту заинтересованность в объективации, которая может быть для него характерна (в особенности если он объективирует собственный мир), а также то историческое бессознательное, которое он неизбежно вовлекает в свою работу. Под историческим или, точнее, академическим бессознательным (или трансцендентальным) следует понимать набор когнитивных структур, которые формируются в результате чисто школьного опыта и являются в значительной степени общими для совокупности продуктов одной и той же (национальной) школьной системы или, в более узкой форме, для всех тех, кто принадлежит в данный момент времени к данной дисциплине. Именно благодаря этому набору и несмотря на все различия между отдельными дисциплинами и конкуренцию между продуктами одной и той же национальной школьной системы обнаруживается совокупность общих диспозиций (их часто приписывают «национальному характеру»), за счет которых им удается понимать друг друга с полуслова, а многие отнюдь не маловажные вещи становятся ясны сами собой: например, что в данный момент времени заслуживает обсуждения, а что не заслуживает, что является значимым и интересным («прекрасная тема» или, напротив, «банальная» и «тривиальная» идея или тема).
Поставить задачу исследования этого академического бессознательного (или трансцендентального) значит не что иное, как обернуть антропологию против нее самой и побудить антропологов самих осуществлять рефлексивный анализ наиболее существенных теоретических и методологических открытий антропологии. Я всегда сожалел о том, что те, кто ответствен за самые необыкновенные достижения когнитивной антропологии (я имею в виду Дюркгейма и Мосса с их анализом «примитивных (primitives) форм классификации» [7] и Леви-Стросса, вскрывшего механизмы «первобытного (sauvage) мышления» [8]), никогда или почти никогда (если не считать «Педагогической эволюции во Франции» [20] и нескольких программных замечаний Мориса Хальбвакса) не применяли к своему собственному миру некоторые научные знания, добытые ими на материале обществ, удаленных в пространстве и времени. Раз уж я упомянул Дюркгейма и Мосса, то воспользуюсь этим, чтобы вспомнить о том, что они явно стремились воплотить в своих исследованиях кантианскую программу знания о знании, которую и я имел в виду, говоря об «академическом трансцендентальном»; и это напоминание кажется тем более полезным и необходимым, что среди множества барьеров, которые препятствуют взаимопониманию между «континентальными» и англо-саксонскими антропологами и социологами, одним из наиболее опасных именно в этом отношении мне видится разрыв между исследовательскими «программами», которым и те и другие обязаны своей погруженности в глубоко разнящиеся академические и философские традиции, а также академическому бессознательному (или трансцендентальному), которое они тем самым приобрели.
Такова программа когнитивной рефлексивной антропологии, которую я стремился реализовать, например, посредством объективации «категорий учительского рассудка» (в современной Франции) на основании корпуса текстов, составленного из карточек, на которых учителя французского в большом лицее на протяжении всего учебного года записывали свои оценки и характеристики учеников (нам был известен пол, возраст учеников и профессии их родителей). Благодаря технике, адаптированной из графической семиологии, мне удалось продемонстрировать и схемы классификации, или бессознательные принципы рассмотрения и разделения (vision et division), которые учителя во Франции (а также, без сомнения, и в Англии и любой другой развитой стране), даже не подозревая об этом, используют в операциях классификации и оценки; в этом они не отличаются от аборигенов из Африки и Океании, которые классифицируют растения и болезни. Я исходил из предположения, что в научном мышлении точно так же в неосознанном виде присутствуют схемы классификации, аналогичные формам классификации и когнитивным структурам, которые, как показали Дюркгейм, Мосс и Леви-Стросс, структурируют
«примитивное», или «первобытное», мышление; и что сами этнологи и социологи (если, конечно, они не проявляют особой бдительности) используют их в своих многочисленных повседневных суждениях, в особенности в области эстетики (где, как отмечал Витгенштейн, суждения часто сводятся к прилагательным) или в области гастрономии и даже применительно к работам коллег и к самим коллегам — я имею в виду в первую очередь такие оппозиции, как яркий/скрупулезный, поверхностный/глубокий, тяжелый/легкий и т. д. Вероятно, и вы прибегнете к классифицирующим дихотомиям такого рода, чтобы воспринять и оценить, позитивно или негативно, то, что я сейчас говорю вам.
Надеюсь, теперь становится ясно, что объективация субъекта объективации — это не просто нарциссическое развлечение, но и не невинный результат исполнения эпистемологического долга чести, дающийся просто так, и что у нее имеются вполне реальные научные последствия. Они состоят не только в том, что она может обнажить разнообразные «перверсии», связанные с занимаемой в научном поле позицией — такие, как фальшивые теоретические отречения, более или менее скандальные, которым сегодня приносят себя в жертву некоторые молодые этнологи, слишком озабоченные тем, чтобы сделать себе имя (в особенности под влиянием того, что мой друг Э.П. Томпсон иронично называл <French flu» ), или как закоснение исследования и даже мышления, которое может стать следствием заточения в академической традиции, сохраняющейся благодаря логике университетского воспроизводства. Но на более глубоком уровне объективация субъекта объективации позволяет постоянно проявлять критическую бдительность в отношении всех «перводвижений» (как говорили стоики) мысли, благодаря которым немыслимое, связанное с эпохой, обществом, состоянием (национального) антропологического поля, может контрабандой проскользнуть в работу мысли и от которых нельзя защититься предостережениями против этноцентризма. Я имею в виду, в первую очередь, то, что можно назвать ошибкой Леви-Брюля, заключающейся в создании непреодолимой дистанции между антропологом и тем, кого он рассматривает в качестве своего объекта, между мышлением и «примитивным мышлением», и в неумении дистанцироваться посредством объективации от собственного мышления и собственных аборигенных практик.
7 «French flu» (англ.) — «французский грипп» — так в немецкой армии во время Первой мировой войны называли «испанский грипп», или «испанку», крупнейшую пандемию в истории человечества, разразившуюся в 1918-1919 гг. Томпсон обозначал таким образом стремительное распространение в европейских университетах в 1970-е гг. научного марксизма, связанного с идеями Л. Альтюссера. — Прим. перев.
Этнолог, который не знает себя, не обладает верным знанием собственного первичного опыта мира, дистанцируется от примитива из-за того, что не узнает примитива и дологическое мышление в самом себе. Поскольку он обладает схоластическим (то есть интеллек-туалистским) взглядом на собственную практику, он не в состоянии опознать универсальную логику практики в способах мышления и действия (например, магических), которые он описывает как дологические и примитивные. И наряду со многими примерами непонимания логики практик, разбираемыми мной в «Очерке теории практики» [12], можно вспомнить здесь замечания Витгенштейна по поводу «Золотой ветви», где он намекает, что именно из-за того, что Фрэзер не знал самого себя, он был просто неспособен узнать в так называемом примитивном поведении эквивалент поведения, которому сам он предается (как и каждый из нас) в сходных обстоятельствах. «Когда меня что-то злит, я порой бью по земле или по дереву своей тростью. Но я, конечно, не верю в то, что земля в чем-то виновата или что мои удары могут мне как-то помочь. "Я вымещаю свой гнев". И все ритуалы имеют такой характер. Такие действия можно называть инстинкт-действиями. И историческое объяснение, утверждающее, например, что я или мои предки раньше верили, что удары по земле могут чем-то помочь, только вводит в заблуждение, поскольку это просто поверхностное допущение, которое ничего не объясняет. Сходство этого действия с актом наказания важно, но утверждать можно лишь это сходство и ничего сверх того. Когда такой феномен связывается с инстинктом, которым я сам обладаю, то это и есть то самое объяснение, которое требуется; то есть объяснение, снимающее конкретное затруднение. И дальнейшее исследование истории моего инстинкта идет по другому пути» [25, р. 136-138]. И Витгенштейн, вероятно, подходит еще ближе к истине, поскольку, опираясь вновь, но теперь уже неявным образом, на свой личный опыт (который, как он предполагает, разделяется и его читателем), он обращается к так называемому примитивному поведению, которое, подобно нашему в сходных обстоятельствах, может не иметь никакой иной цели вне его самого или вне «удовольствия» от его осуществления: «Сжечь чучело. Поцеловать портрет возлюбленной. В основе этого, разумеется, не лежит вера в то, что это будет иметь какое-то определенное воздействие на изображаемый предмет. Такие действия нацелены на получение удовлетворения и достигают этого. Или скорее они вообще ни на что не нацелены: мы просто поступаем таким образом, а потом чувствуем удовлетворение» [25, р. 122]. Достаточно хоть раз осуществить жесты, одновременно психологически необходимые и совершенно безнадежные, которые совершаются у могилы любимого человека, чтобы понять, что Витгенштейн прав, когда отказывается от самих вопросов о функциях, смысле и интенции некоторых ритуальных
и культурных актов. И он прав, когда говорит, что «Фрэзер еще более "дикарь", чем большинство "дикарей"», потому что в отсутствие «интимного знания» собственного духовного опыта он не понимает, что ничего не понимает в том духовном опыте, который упорно пытается объяснить. И наконец, я процитирую еще одно из тысячи замечаний Витгенштейна, которые были бы здесь уместны — оно касается обычая «полностью обривать тело людей, обвиненных в колдовстве»: «Вне всяких сомнений, уродство, которое делает нас недостойными или нелепыми в наших собственных глазах, может полностью лишить нас воли к самозащите. Как мы порой смущаемся — по крайней мере, многие из нас (и я в том числе) — нашей физической или эстетической неполноценности» [25, p. 154]. Это похожее на откровенность обращение к сингулярному, частному «Я» аналитика прямо противоположно некоторым нарциссическим признаниям проповедников постмодернистской рефлексивности и в своей простоте обладает тем выдающимся достоинством, что оно разрушает ширму ложных объяснений, которую создает антропология, не знающая себя самой, и приближается к чужому опыту, позволяя понять его за счет того, что в нем есть одновременно знакомого и глубинного.
Иными словами, если на первом уровне критика этноцентризма (или анахронизма) правомерна, поскольку она предостерегает от необоснованного перенесения познающего субъекта на познаваемый объект, то на другом уровне она может помешать антропологу (так же, как и социологу или историку) рационально использовать для понимания и анализа чужого опыта собственный аборигенный опыт, который необходимо предварительно объективировать и проанализировать. По-моему, нет ничего более неправильного, чем единодушно принятая в социальных науках максима, согласно которой исследователь не должен вкладывать в исследование ничего от себя самого. Напротив, следует постоянно отсылать к собственному опыту, но не так, как это часто делают даже лучшие исследователи — стыдливо, бессознательно и бесконтрольно. Что бы ни стало предметом моего интереса — кабильская женщина или беарнский крестьянин, алжирский эмигрант или рабочий, учитель или французский предприниматель, писатель Флобер, художник Мане или философ Хайдеггер, самое сложное парадоксальным образом состоит в том, чтобы не забыть, что все это такие же люди, как и я; по меньшей мере, в том отношении, что они не занимают позицию наблюдателя за собственными действиями (такими, как совершение обряда посвящения, следование за похоронной процессией, обсуждение контракта, рисование картины, участие в академическом ритуале, выступление с публичной лекцией, присутствие на birthday party8) и, собственно говоря, вообще не знают, что делают (во всяком случае, в том смысле, который я
8 Birthday party (англ.) — вечеринка по случаю дня рождения. — Прим. ред.
пытаюсь познать как наблюдатель и аналитик). В голове у них нет научной истины относительно своей практики — то есть того, что я пытаюсь выделить в наблюдении за их практикой. Вдобавок они, за редкими исключениями, никогда не задают себе вопросов, которые я себе задаю, когда действую относительно них как антрополог: почему именно такая церемония? почему именно такие свечи? почему именно такой пирог? почему именно такие подарки? почему именно такие приглашения и почему приглашены именно эти люди? и т. д.
Таким образом, самое сложное состоит вовсе не в том, чтобы понять их (что уже само по себе непросто), но в том, чтобы суметь не забыть то, что я в других ситуациях прекрасно знаю, но знаю только на практике — то есть тот факт, что они полностью лишены намерения понять и объяснить, которое есть у меня как у исследователя; и, следовательно, не вложить каким-нибудь образом в их головы проблематику, которую я создаю в отношении них, и теорию, которую я создаю в качестве ответа на эту проблематику. Именно это происходит как с этнологом, который, подобно Фрэзеру, не сумев некоторым образом дистанцироваться от себя самого и благодаря этому усвоить истину собственного обыденного опыта и собственных обычных или необычных практик, создает непреодолимую дистанцию между собственным опытом и опытом своего объекта, так и с социологом и экономистом, которые, не сумев порвать с неосмысленными предпосылками собственного мышления мыслителя, то есть со scholastic bias9, оказываются неспособны усвоить дорефлексивный опыт мира и в итоге переносят мышление ученого с его мифом о homo economicus и «теорией рационального действия» на поведение обычных экономических агентов [16].
Если четко понимать неустранимую специфичность логики практики, то становится ясно, что не следует лишать себя того совершенно незаменимого научного ресурса, которым является социальный опыт, предварительно подвергнутый социологической критике. Я очень быстро понял, что в ходе своей полевой работы в Кабилии я все время обращался к своему детскому опыту жизни в беарнском обществе — одновременно для того, чтобы понять практики, которые я наблюдал, и для того, чтобы оградить себя от интерпретаций, самопроизвольно приходивших мне в голову или предлагавшихся информантами. Именно поэтому, слушая информанта, который в ответ на вопрос о делениях, существующих в его группе, перечислял мне разные термины, обозначающие более или менее протяженные единицы, я спрашивал себя, можно ли сказать, что та или иная из «социальных единиц», которые он называл (adhrum, thakharrubth10 и т. д.) более
9 Scholastic bias (англ.) — схоластическая ошибка. — Прим. ред.
10 Adhrum, thakharrubth — понятия, которые используются в Кабилии для деления сообщества на линиджи; представляют собой более (adhrum) или менее (thakharrubth) крупные объединения расширенных семей. — Прим. перев.
«реальна», чем lou besiat, единица, обозначающая совокупность соседей, которую иногда упоминают беарнцы и существование которой некоторые французские этнологи считают научно установленным. На самом деле интуиция, которая впоследствии подтвердилась тысячей моих исследований, подсказывала мне, что besiat — это не больше и не меньше, чем случайная, в некотором роде «виртуальная» группировка, которая становится «действительной», существующей и действующей, лишь в некоторых, совершенно определенных условиях (например, при транспортировке покойника), чтобы определить круг и статус тех, кто участвует в деятельности, соответствующей данным обстоятельствам.
Но это лишь один из многочисленных случаев, когда я обращался к своему аборигенному опыту, чтобы оградить себя от «folk theories», предлагаемых моими информантами или этнологической традицией. И именно для того, чтобы подвергнуть критике эти самопроизвольные инструменты критики, я взялся в 1960-е годы (как раз тогда, когда проводил исследования в Кабилии) за непосредственное изучение беарнского общества — я чувствовал, что, несмотря на очевидные различия, в нем имеется множество аналогий с кабильским аграрным обществом. В данном случае, как и во время моего исследования университетских профессоров в Париже, реальным объектом, в отличие от объекта заявленного и видимого, был субъект объективации или, точнее говоря, то воздействие, которое оказывает на знание объективирующая поза, то есть то изменение, которое происходит с вашим опытом социального мира (в данном случае, мира, в котором все люди были мне знакомыми, я знал их личную и коллективную историю, даже не расспрашивая их), когда вы перестаете просто жить в нем и начинаете воспринимать его как объект. Это первое сознательное и методичное упражнение в рефлексивности стало, конечно, пунктом отправления в нескончаемом перемещении туда-обратно между рефлексивным моментом объективации первичного опыта и активным моментом инвестирования этого опыта, подвергнутого таким образом объективации и критике, в акты объективации, все более и более далекие от этого опыта. Без сомнений, именно в этом двойном движении потихоньку создается научный субъект, который одновременно является и «антропологическим оком», способным уловить невидимые отношения, и (практическим) самообладанием, основанным, например, на постепенном разоблачении «scholastic bias», о котором мимоходом упоминает Остин, и его следствий [10, p. 3-4].
Я осознаю, что все это может показаться одновременно очень абстрактным и, конечно, довольно вызывающим. (Не правда ли, есть что-то безумное в том, чтобы проживать прогресс, которого удается добиться на всем протяжении исследования, как своего рода медленный путь по дороге приобщения, будучи уверенным в том, что познаешь мир все лучше и лучше по мере того, как все лучше познаешь
себя; что научное познание и познание себя и собственного социального бессознательного идут нога в ногу; и что первичный опыт, преобразованный научной практикой, сам трансформирует научную практику, и наоборот?) Но на самом деле я имею в виду совершенно простые и конкретные случаи из своего опыта — в качестве примера я упомяну лишь некоторые из них. Когда я работал над исследованием проблемы безбрачия в Беарне, начавшимся с разговора с другом детства о фотографии класса, на которой я нашел себя, и пытался построить формальную модель брачного обмена (в то время леви-строссовский структурализм достиг высшей точки своего расцвета) [11], мне случилось болтать с человеком, который был одним из самых стойких и самых умных моих информантов (и одновременно моей матерью). В тот момент я вообще не думал о своем исследовании, но ее брошенные мимоходом слова внушили мне смутную тревогу о нем — она сказала об одной семье из деревни: «Ох, знаешь, они теперь такая родня с Унтелями (речь идет о другой семье из этой деревни), с тех пор как у тех в семье появился выпускник Политехнической школы...» С этого замечания началась рефлексия, приведшая меня к тому, чтобы перестать рассматривать брак в логике закона (к тому моменту я уже осознал узость такого подхода применительно к Кабилии), но, вопреки структуралистской ортодоксии, представлять его как стратегию, ориентированную на реализацию особых интересов — таких, как стремление сохранить или преумножить экономический капитал через связывание имущества породнившихся семей, а также социальный и символический капитал посредством широты и качества «отношений», возникающих в результате бракосочетания [15].
Однако мало-помалу полностью изменились все мои представления о существовании групп, кланов, племен, областей, классов и наций [2]: они более не казались мне ни «реальными» сущностями, четко очерченными в действительности и в этнологическом описании, ни генеалогическими группировками, определенными на бумаге в соответствии с чисто генеалогической метрикой, но социальными конструкциями, артефактами, которые более или менее искусственно поддерживаются последующими обменами и той работой, которую часто оставляют на долю женщин. (В качестве примера перемещения туда-обратно, о котором я только что говорил, можно привести работу одного американского социолога, в которой она показала, что сегодня в США женщины весьма активно пользуются телефоном, из-за чего их считают очень болтливыми: таким образом они выполняют возложенную на них обязанность по поддержанию родственных отношений не только с собственной семьей, но и с семьей супруга.) И точно так же я мог бы показать, как проведенный мной анализ беарн-ского «дома», под которым подразумеваются имущество и домочадцы, а также стратегий, за счет которых он утверждает и защищает
2 «Социологический журнал», № 2
себя от соперничающих «домов», позволил мне совершенно по-новому (как мне кажется) понять смысл выражения «королевский дом» и то, каким образом еще до постепенного создания особой логики, называемой «raison d'État11», королевские «дома» могли использовать для сохранения и преумножения своего имущества стратегии воспроизводства, совершенно эквивалентные по своему принципу и по своей логике стратегиям, которые практиковали беарнские «дома» и их «главы домов». Сюда относятся брачные стратегии, позволяющие преумножить или сохранить имущество; дела чести, касающиеся увеличения символического капитала потомков; а также войны за наследство [1].
Я упомянул о чести и мог бы попробовать восстановить перед вами ту длительную работу по наблюдению, эмпирическому анализу и рефлексии, которая от понятия чести, объекта моих первых этнологических исследований, о которых я рассказывал тем, кто сопровождал мое вступление в профессию и покровительствовал ему (например, Джулиану Питт-Риверсу, Хулио Каро Барохе, Джону Перистиа-ни), привела меня к понятию символического капитала, весьма полезному, на мой взгляд, для анализа некоторых наиболее типичных феноменов экономики символических благ, которая воспроизводится в рамках самой что ни на есть современной экономики — в качестве всего лишь одного примера можно упомянуть совершенно особую политику символического инвестирования крупных фондов или некоторые формы меценатства. Но я хотел бы кратко описать вам другой, особенно плодотворный пример перемещения туда-обратно: когда я обнаружил в романе «На маяк» Вирджинии Вулф [4] мифологические структуры, которых я бы не заметил, если бы мой взгляд не был заострен на это благодаря моему знакомству с кабильским (и вообще средиземноморским) видением полового разделения труда, то проведенный Вирджинией Вулф в этом романе исключительно тонкий анализ того, каким образом господствующий мужчина оказывается под господством собственного господства, заставил меня пойти дальше в моей рефлексивной работе, и я смог обнаружить, в свою очередь, пределы ясности сознания антрополога, который не умел или не мог полностью обратить антропологию против нее самой. Это стало возможным именно благодаря предложенному Вулф описанию libido academica, одной из особых форм мужского безумия — описанию одновременно в высшей степени жестокому и в высшей степени деликатному, которое могло бы и должно было бы занять место в Homo academicus, если бы существовала другая версия этой книги, не такая х0лодно объективистская, то есть не такая дистанцированная от объекта и субъекта объективации.
11 Raison d'État (франц.) — государственные интересы. — Прим. ред.
Последний пример контролируемого использования антропологии (совершенно противоположный тому спонтанному использованию этнологической аналогии, которое характерно сегодня для некоторых, в особенности французских, антропологов, страстно мечтающих об экзотических полевых исследованиях): с помощью переопределения «ритуалов инициации» как ритуалов институционализации мне удалось заметить и проанализировать одну из самых незаметных функций «элитных школ» (которая так хорошо скрыта за функциями обучения и отбора), а именно посвящение тех, кто доверился им, приписывание им принадлежности к высшей породе за счет их институ-ционализации как отличных от простонародья и отделенных от него непреодолимой границей [13, 17]. Однако я на более личностном уровне и, как мне кажется, более глубоко понял всю совокупность ритуалов академической традиции в целом. Функция и результат этих ритуалов состоят в том, чтобы собравшийся коллектив давал торжественную санкцию на новое рождение, которое коллектив совершает и которого одновременно он сам требует: таково Commencement12 в английских и американских университетах, церемония, которая торжественно фиксирует завершение длительного предварительного посвящения и официальным актом публично подтверждает медленную трансформацию, которая свершается в посвящении и в ожидании посвящения; таковы и инаугурационные лекции и даже, если позволите, обряд приема в невидимый колледж канонизированных антропологов — тот, что я сейчас совершаю перед вами и вместе с вами.
Но в заключение я хотел бы упомянуть о другом воздействии рефлексивности — без сомнений, более личностном, но, на мой взгляд, весьма важном для продвижения в научном исследовании: я мало-помалу стал полагать, как бы вопреки себе и наперекор принципам моего исходного видения мира, что научное исследование в чем-то похоже на инициирующий поиск13. Ни для кого не секрет, что каждый из нас перегружен прошлым, собственным прошлым, и это социальное прошлое, каким бы оно ни было, — «простонародным» или «буржуазным», мужским или женским, — всегда тесно переплетенное с тем, что интересует психоаналитика, оказывается в особенности тяжелым и стесняющим, когда речь идет о занятии социальными науками. Я уже сказал, что, вопреки методологической ортодоксии,
12 Commencement (англ.) — церемония присвоения ученых степеней и вручения дипломов. — Прим. ред.
13 Инициирующий поиск (recherche initiatique) — элемент масонской эсхатологии. Каждый масон осуществляет поиск истины с целью личного усовершенствования и тем самым готовится к новой жизни в видимой ложе, которая символизирует невидимую ложу, то есть возвращение к создателю. — Прим. перев.
которая укрывается за авторитетом Макса Вебера и его принципа «аксиологической нейтральности» (Wertfreiheit), я глубоко убежден, что исследователь может и должен мобилизовать во всех исследовательских действиях свой опыт, то есть это самое прошлое. Однако у него нет права делать это, если он не подвергает все свои обращения к прошлому строгому критическому рассмотрению. На самом деле речь идет о том, чтобы поставить под вопрос не только восстанавливаемое прошлое, но и в целом отношение к этому прошлому; если прошлое действует бессознательно, то оно может быть причиной систематического искажения припоминания и, стало быть, возникших воспоминаний. Лишь настоящий социоанализ этого отношения, в высшей степени непроницаемого для себя самого, может позволить достичь примирения исследователя с самим собой и его социальными характеристиками, которое возникает благодаря освобождающему анамнезу [19].
Я знаю, что мои слова вновь могут показаться одновременно вызывающими и абстрактными, хотя на самом деле я имею в виду совершенно простой опыт, который каждый исследователь может, как мне кажется, восстановить и, я верю, получить тем самым очень большую выгоду — не только научную, но и личную. Рефлексивное устройство, которое я пустил в ход во время этнографических исследований почти одновременно в Кабилии и в Беарне, в отдаленной колонии и в моей родной деревне, позволило мне посмотреть этнологически, то есть с должным уважением (как научным, так и этическим — это вещи неразделимые) к объекту исследования, на среду, из которой я сам происхожу — простонародную и провинциальную, отсталую, кто-то может даже назвать ее архаичной, которую я в какой-то момент стал (возможно, меня к этому подтолкнули) презирать, от которой я стал отрекаться и, хуже того, которую стал отталкивать от себя в период своей волнительной (и даже несколько алчной и подобострастной) интеграции в центр и культурные ценности центра. Без сомнений, именно благодаря тому, что таким образом я оказался в ситуации, когда смог бросить профессиональный (одновременно понимающий и объективирующий) взгляд на мир, из которого я происхожу, я сумел вырваться из насильственных двусмысленных отношений , в которых смешиваются знакомство и отстраненность, расположение и страх (или даже отвращение), и не впасть при этом в популистскую снисходительность к неким воображаемым людям, которой часто предаются интеллектуалы. Конечно, именно это преобразование всей моей личности, выходящее далеко за пределы требований самых требовательных методологических сочинений, стало причиной теоретического преобразования, позволившего мне вновь обрести практическое отношение к миру в той полноте, которая была бы недостижима при помощи феноменологического анализа, все же слишком отстраненного. Это обращение свершилось не в одночасье, благодаря какому-то внезапному озарению, и многократное возвращение
к моей полевой работе в Беарне (я трижды возобновлял работу над темой безбрачия) было для меня необходимым по техническим и теоретическим причинам, но также, без сомнений, и потому, что в этой работе анализ всякий раз сопровождался медленным и трудным самоанализом [18].
Я не оставил попыток примирить этнологию с социологией, и это связано, конечно, с моей глубокой убежденностью в том, что это гибельное для науки разделение должно быть разрушено, но также и с тем, что, как вы могли видеть, это было способом устранить болезненный раскол (так никогда до конца и не преодоленный) между двумя половинами меня самого и те противоречия и напряжения, которые проникают из него в мою научную практику и, возможно, в мою жизнь в целом. Я как-то говорил, что в замене однозначно более узкого французского слова «этнология» на слово «антропология», за которым образованный француз чувствует одновременно глубину немецкого Anthropologie и современность английского Anthropology, я вижу стратегический «ход», который сильно поспособствовал социальному (или светскому) успеху «Структурной антропологии» Леви-Стросса. И тем не менее, я не могу ничего поделать со своим желанием, чтобы единство наук о человеке утвердилось под флагом Антропологии, которая на всех языках мира обозначает одновременно то, что понимается сегодня и под этнологией, и под социологией.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бурдье П. От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // Социоанализ Пьера Бурдье. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 2001. C. 139-176.
2. Бурдье П. Социальное пространство и генезис классов // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 17-33.
3. Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы (Часть I). М.: Гнозис, 1994.
4. Вулф В. На маяк // Вулф В. Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо. Волны. Флаш. Рассказы. Эссе. М.: Пушкинская библиотека, АСТ, 2008. С. 165-306.
5. Гарнетт Д. Женщина-лисица. Человек в зоологическом саду. М: Б.С.Г.-Пресс, 2004.
6. Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии. СПб: Наука, 2003.
7. Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // Мосс. М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М: Наука; Восточная литература РАН, 1996. С. 6-73.
8. Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический проект, 2008.
9. Anthropological locations: Boundaries and grounds of a field science / Ed. by A. Gupta & J. Ferguson. Berkeley: University of California Press, 1997.
10. Austin J.L. Sense and sensibilia. Oxford: Oxford University Press, 1962.
11. Bourdieu P. Célibat et condition paysanne // Études rurales. 1962. No. 5-6. P. 32-135.
12. Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de trois études d'ethnologie kabyle. Genève: Droz, 1972; Paris: Seuil, coll. «Points», 2000.
13. Bourdieu P. Les rites d'institution // Actes de la recherche en sciences sociales. 1982. No. 43. P. 58-63;
14. Bourdieu P. Homo academicus. Paris: Minuit, 1984.
15. Bourdieu P. De la règle aux strategies (entretien avec Pierre Lamaison) // Terrains. 1985. No. 4. P. 93-100.
16. Bourdieu P. The scholastic point of view // Cultural Anthropology. 1990. No. 5. P. 380-391.
17. Bourdieu P. Comprendre // Bourdieu P., et al. La misère du monde. Paris: Seuil, 1993. P. 903-939.
18. Bourdieu P. Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn. Paris: Seuil, coll. «Points», 2002.
19. Bourdieu P. Science de la science et réflexivité. Paris: Raisons d'agir (Cours et travaux), 2001.
20. Durkheim É. L'évolution pédagogique en France / Introduction de M. Halbwachs. Paris: PUF, 1990.
21. Geertz C. Works and lives: The anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press, 1988.
22. Marcus G., Fischer M. Anthropology as cultural critique. Chicago; Chicago University Press, 1986.
23. Rosaldo R. Culture and truth: The remaking of social analysis. Boston: Beacon Press, 1989.
24. Soulié Ch. L'anatomie du goût philosophique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1995. No. 109. P. 3-21.
25. Wittgenstein L. Remarks on Frazer's Golden Bough // Wittgenstein L. Philosophical occasions, 1912-1951. Indianapolis: Hackett, 1993.
26. Woolgar S. Reflexivity is the ethnographer of the text // Knowledge and re-flexivity: New frontiers in the sociology of knowledge / Ed. by S. Woolgar. London: Sage, 1988. P. 14-34.
27. Writing culture: The poetics and politics of ethnography / Ed. by J. Clifford & G. Marcus. Berkeley: University of California Press, 1986





 CC BY
CC BY 58
58