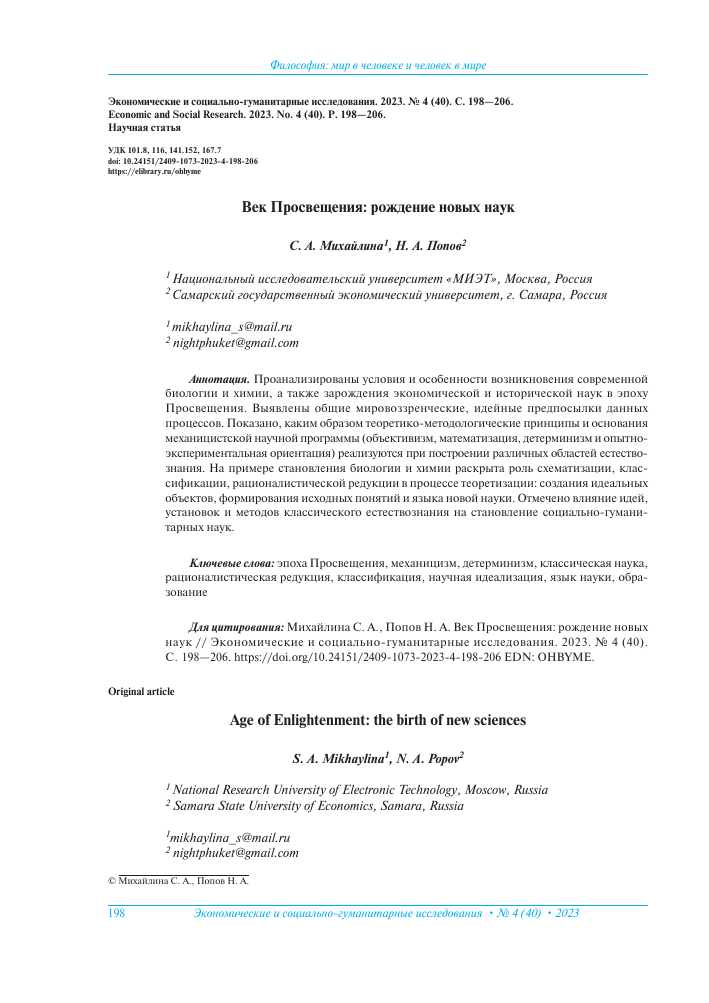Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2023. № 4 (40). С. 198—206. Economic and Social Research. 2023. No. 4 (40). P. 198—206. Научная статья
УДК 101.8, 116, 141.152, 167.7
doi: 10.24151/2409-1073-2023-4-198-206
https://elibrary.ru/ohbyme
Век Просвещения: рождение новых наук
С. А. Михайлина1, Н. А. Попов2
1 Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия
2 Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия
1 mikhaylina_s@mail.ru
2 nightphuket@gmail.com
Аннотация. Проанализированы условия и особенности возникновения современной биологии и химии, а также зарождения экономической и исторической наук в эпоху Просвещения. Выявлены общие мировоззренческие, идейные предпосылки данных процессов. Показано, каким образом теоретико-методологические принципы и основания механицистской научной программы (объективизм, математизация, детерминизм и опытно-экспериментальная ориентация) реализуются при построении различных областей естествознания. На примере становления биологии и химии раскрыта роль схематизации, классификации, рационалистической редукции в процессе теоретизации: создания идеальных объектов, формирования исходных понятий и языка новой науки. Отмечено влияние идей, установок и методов классического естествознания на становление социально-гуманитарных наук.
Ключевые слова: эпоха Просвещения, механицизм, детерминизм, классическая наука, рационалистическая редукция, классификация, научная идеализация, язык науки, образование
Для цитирования: Михайлина С. А., Попов Н. А. Век Просвещения: рождение новых наук // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2023. № 4 (40). С. 198-206. https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-4-198-206 EDN: OHBYME.
Original article
Age of Enlightenment: the birth of new sciences
S. A. Mikhaylina1, N. A. Popov2
1 National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
2 Samara State University of Economics, Samara, Russia
1mikhaylina_s@mail.ru 2 nightphuket@gmail.com
© Михайлина С. А., Попов Н. А.
Abstract. The authors examine the conditions and features of the emergence of modern biology and chemistry, as well as the emergence of economic and historical sciences in the Enlightenment. General worldview and ideological prerequisites for these processes are revealed. It was shown how the theoretical and methodological principles and foundations of the mechanistic scientific program (objectivism, mathematization, determinism and experimental and development orientation) are implemented in the construction of various areas of natural science. Using the example of the formation of biology and chemistry, the role of systematization, classification, and rationalistic reduction in the process of theorization has been revealed: the creation of ideal objects, the formation of initial concepts and the language of a new science. The influence of ideas, attitudes and methods of classical natural science on the development of social sciences and humanities is noted.
Keywords: Age of Enlightenment, mechanic philosophy, determinism, classical science, rationalistic reduction, classification, scientific idealization, language of science, education
For citation: Mikhaylina S. A., Popov N. A. "Age of Enlightenment: the Birth of New Sciences". Economic and Social Research 4 (40) (2023): 198—206. (In Russian). https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-4-198-206 EDN: OHBYME.
Для философии и науки эпохи европейского Просвещения (XVIII в.) характерна вера в необоримую мощь человеческого разума. Научно ориентированному разуму открываются тайны природы1, силой этого разума может быть усовершенствована человеческая, общественная жизнь.
Наука признается одной из приоритетных ценностей человечества, благородным видом деятельности, базовой платформой воспитания. «Воспитание, будучи всегда полезным, — писал Гельвеций, — делает нас тем, чем мы являемся. Ученые — это наши воспитатели» [3, с. 351]. Просвещение в яркой форме развивает идею единства образования и воспитания. Гельвеций вменяет законодателям требование совершенствования образования, с тем чтобы «создать людей, способных прославиться в науках и искусствах»; советует применять стимулы, в том числе соревнование и награды; подчеркивает ценность образованных наставников, «имеющих навыки в обращении со своими учениками» [3, с. 534]. Фран-
цузские просветители объявили невежество главным источником человеческих несчастий и препятствием общественного развития, повсеместно выгодным правящим группам.
Классическая2 наука, возникшая в XVII в., ориентирована на безличное, объективированное познание законов природы, которые мыслятся как однозначные, жесткие связи. Французские материалисты (Вольтер, Дидро, Ламетри, Гельвеций, Гольбах), рассуждая о закономерностях в природе, отрицали случайность в смысле беспричинности. Установка «жесткого», или механистического, детерминизма ведет к фатализму, и философы обращали внимание на важность преодоления этой проблемы: высказывается предположение, что причинные связи могут быть разного рода, не все они в одинаковой степени необходимы и т. п. Тем не менее преодолеть проблему в рамках механистической картины мира не удалось.
К общим особенностям стиля научного познания Просвещения относится стремление
1 За исключением агностицизма и скептицизма Дж. Беркли и Д. Юма.
2 Классическая наука — первый этап развития современного естествознания; она возникла в XVII в. на основе механики Галилея — Ньютона, характеризуется стремлением к объективному, опытно доказуемому познанию причин, связей в природе, выражаемых математически (периодизация предложена В. С. Степиным).
к математическому способу описания объектов и формулирования закономерностей: «книга природы написана языком математики» (Галилей). Математик и гуманист-просветитель М. Ж.-А. Н. де Кондорсэ [4, с. 204—205] подчеркивает «связь рационалистически-математической и опытно-экспериментальной ориентации научного знания, причем методы математики» интерпретированы им как способы «построения науки в целом» [11, с. 36]. Эксперимент расценивается как демонстрация достоверности знания, критерий истины.
Эпоха Просвещения — время становления новых частных наук: обретения ими собственной предметности, эмпирической, фактуальной базы и теоретической методологии. К концу XVIII в. относится появление фигуры натуралиста-исследователя (ботаник, географ, геолог, археолог, этнограф)3, системно-методически работающего в полевых условиях. Отмечается формирование дисциплинарности научного знания на начальном этапе дифференциации.
Господство механицизма — наиболее общая характеристика научного познания в XVIII в. Выдающийся математик и физик П.-С. Лаплас (1749—1827) выделил основные элементы и положения первой научной картины мира — механицистской:
— базовый элемент — механические частицы физики Ньютона;
— всеобщий детерминизм, рассматривающий всякое явление как следствие предшествующего состояния (побуждающей причины), где нет места случайности и отрицается свободная воля;
— сведение (редукция), подчинение любых естественных процессов ньютоновским законам динамики и тяготения, количественным отношениям (см.: [12, с. 124—125]).
Механицизм, или физикалистский подход, породил так называемую элементарист-скую парадигму, согласно которой свойства целого определяются свойствами его элементов и их взаимодействий. В механике Ньютона усматривалась универсальная для всех наук схема: отыскание наименьших элементов (тел) взаимодействий, выявление их связей и отношений, математизация найденных закономерностей. В естествознании XVIII в. применение редукционистского подхода оказалось плодотворным, особенно в теоре-тизации биологии и химии.
Большой вклад в становление биологической науки вносят исследования К. Линнея (1707—1778), который разработал систематику живой природы, довольно близкую к современной. Он выделил:
— царства — животные, растения, минералы;
— классы (в основе — особенности кровеносной системы): млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, насекомые, черви;
— отряды ^ роды ^ виды ^ вариации. В знаменитом сочинении «Система природы» (1735) К. Линней ввел «бинарную номенклатуру», используемую и поныне в ботанике и зоологии, где каждый вид обозначен двумя латинскими терминами — родовым и видовым. Он также сформулировал определение вида на основе морфологических признаков (сходство потомства одной семьи) и физиологических критериев (наличие потомства, способного к размножению). Человек, получивший название Homo sapiens, был отнесен Линнеем к классу млекопитающих, отряду приматов (наряду с обезьянами, на основе сходства строения) за столетие до Ч. Дарвина. При этом шведский естествоиспытатель не считал, что человек произошел от обезьяны, придерживаясь доктрины
3 Часто натуралист XVIII — XIX вв. совмещал все исследовательские задачи: он фиксировал точное месторасположение (составлял карты, планы); замерял, описывал объект, фотографически точно и искусно зарисовывал его, составлял каталоги и т. п.
креационизма: в природе существуют только те формы растений и животных, которые сотворены Богом изначально.
На основе эмпирических исследований (ученый описал и открыл более 1500 растений), продолжая традиции классифика-ции4 как основного способа теоретизации биологии, Линней использовал рационалистическую редукцию применительно к систематике растений. Она выражалась в том, что за основание (в качестве существенного признака) классификации была принята упрощенная схема, или «формула»: четыре части органов размножения растений (чашечка; лепестки, тычинки, пестики цветка) распределяются по параметрам (число, фигура, расположение, пропорции). Кроме четырех признаков в цветке в формулу включались три признака плода и количественный учет особенностей разделения полов (однодомные, двудомные, многодомные). Все остальные многообразные качества и свойства «отбрасывались»; реальная природа трансформировалась в «идеальную». В итоге сочетание признаков и параметров, выражаемое математически, давало определенное число всех возможных родов растений. Комбинаторный анализ, строгий терминологический аппарат (искусственный язык) определяют место растения в системе, т. е., резюмирует Г. Ю. Любарский, «позволяют справиться с бесконечной сложностью и почти хаотической изменчивостью предметов естественной истории» [8, с. 157].
Таким образом впервые в биологической науке создается идеальный объект, т. е. то, что может замещать реальное многообразие природных явлений в голове систематика. Идеализация или «идеация» предмета ботаники означала применение к нему таких правил комбинации отдельных частей, кото-
рые не имеют силы для природного объекта. В реальности устройство растения неизмеримо сложнее, но для систематики данный подход оказался продуктивным: возникла первая работающая таксономическая5 программа. При этом система Линнея искусственна, она содержит много не просто натяжек, но и забавных казусов: например, морковь и смородина оказались в одном классе из-за одинакового количества тычинок в цветке.
В биологии прежде не удавалось создавать теоретических конструктов, подобных идеальным моделям физики Галилея — Ньютона, так как наглядное и родственное человеку живое невероятно сложно мыслить, а не просто описывать. «Создавая формальный язык описания, схематизируя реальность, производя идеацию, — утверждает Г. Ю. Любарский, — наука вступает в область контринтуитивного и непонятного» [8, с. 160] для здравого смысла, обыденного сознания, обретая при этом ясность знания.
Философы Античности не выделяли понятия «живого» как такового, они писали чаще об образе жизни: созерцательном или общественном (политическом); о «благой жизни» и т. п.; при этом, как отмечает Дж. Агамбен, пользовались двумя терминами, различающимися «семантически и морфологически: zoe, означавшим сам факт жизни, общий для всех живых существ (будь то животные, люди или боги), и bios, указывавшим на правильный способ или форму жизни индивида либо группы» [1, с. 7]. Аристотель в работе «Политика» пишет, что жизнь в ее репродуктивном качестве «четко ограничена пространством oikos», т. е. дома, хозяйства, а чисто природная жизнь, zoe, исключена из пространства полиса. В определении человека (<^on politicоn» — «живущее в полисе», или
4 Прежде всего Аристотеля, который выделял основные формы живых существ на основе видимых признаков и функций (пищеварение, размножение, локомоция, дыхание) в определенной среде. Четкой терминологии выработано не было.
5 Таксон — единица систематики, группа в классификации, состоящая из отдельных объектов, объединяемых на основании общих признаков, свойств. Наименьшая единица классификации в биологии — вид.
общественное животное), «политическое» является видовым отличием живого существа, наделенного «логосом», т. е. речью, разумом (см.: [1, с. 8—9]. В сочинении «О душе» Аристотель дает следующее определение гое: «Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющие основание в нем самом (Ш'ау1оу)» [2, с. 394]. При этом философ вводит данное определение для прояснения сущности души как актуализации возможности жизни: «...Душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего органами» [2, с. 395]. Только в XIX в. в связи с ускоренным развитием науки перед философами и биологами встанет вопрос о сущности жизни. Но уже в систематике К. Линнея выделяется такой доминирующий принцип живой системы, как способность к самовоспроизводству. Это общее качество, в котором ученый выделяет органы размножения растений, а также плодовитость потомства как условие видовой принадлежности: она «назначается» основным элементом или телом связей и отношений предмета исследования, опорой построения идеального объекта биологической теории.
Становление химии также связано с механистической научной программой. Уже во второй половине XVII в. физик и химик Р. Бойль (1627—1691) предложил определение «элемента» — наименьшего тела взаимодействий. Движением корпускул — малых частиц материи, их соединением и разъединением объясняется всякое химическое явление или процесс. Проницательная догадка Р. Бойля о том, что истинные элементы могут быть найдены в результате последовательного разложения тел, получила признание многих химиков XVIII в. Введено понятие «химического анализа». Бойль считал, что химия опирается на экспериментальный метод, с помощью которого следует систематизировать вещества и разделить их на группы в соответствии с выявленными свойствами. Свои лабораторные опыты английский ученый описывал чрезвычайно точно и подробно.
Один из основоположников современной химии А. Л. Лавуазье (1743—1794) воспроизвел дефиницию «простого тела», предложенную Бойлем: это «все тела, которые мы не можем разложить, которые мы получаем в последнем итоге путем химического анализа. Несомненно, настанет день, когда эти вещества, являющиеся для нас простыми, будут в свою очередь разложены... Но наше воображение не должно опережать факты» [6] (цит. по: [14, с. 430]). Лавуазье ввел понятие простого и составного вещества. Он доказал, что вода и воздух — не элементы: первая состоит из двух «простых тел» — водорода и кислорода, а второй есть смесь кислорода и азота, их объемы примерно соотносятся как 1:4. Лавуазье обосновал теорию горения как соединения кислорода с другими веществами; выявил роль кислорода в процессах окисления и дыхания. В учебнике «Начальный курс химии» ученый представил простые вещества, известные к тому времени, в форме таблицы. В XVIII в. таблица, по мнению М. Фуко, являлась важнейшим способом создания номенклатуры простых тел и «обозначающих их знаков», которая «репрезен-тует собой систему вещей», подчеркивая необходимость аналитического метода и языка науки (см.: [11]).
Лавуазье применял количественные методы, в частности взвешивание, в исследовании процессов горения и окисления. Это позволило подтвердить закон сохранения массы при взаимодействии веществ, который ранее уже был сформулирован М. В. Ломоносовым. Лавуазье также показал, что теплота разложения веществ количественно равна теплоте соединения подобных веществ (закон Лавуазье). Исследовательская мысль ученого вела к выстраиванию рациональной системы соединений веществ. Вместе со своими коллегами, среди которых К. Бер-толле, А. Фуркруа и др., он создал классификацию элементов: металлы, неметаллы и химические соединения. Считая кислород, открытый Дж. Пристли в 1774 г., главным
химическим элементом, Лавуазье разделил химические соединения на три класса: 1) кислоты — соединения кислорода с неметаллами, 2) основания — соединения кислорода с металлами, 3) соли — соединения кислот с основаниями. Великий французский химик создал язык химической науки, в том числе предложил термин «калориметр» и другие.
Другой выдающийся основатель современной химии, английский ученый Дж. Дальтон (1766—1844), исследуя газовые смеси, открыл закон физики газов6, закон «кратных отношений», который натолкнул его на мысль о том, что соединения газов собраны из малого числа одних и тех же простейших частиц (водорода, азота, углерода, кислорода) в разных соотношениях. Получается, что «элементарные частицы» всех однородных тел (bodies) абсолютно подобны по весу и форме: «любая частица воды подобна любой другой частице воды, любая частица водорода подобна другой частице водорода и т. д.» [15, с. 142—143] (цит. по: [14, с. 430]), т. е. мельчайшие неделимые частицы одного элемента одинаковы между собой, но отличаются от неделимых частиц других элементов. Так появилась теория «химического атомизма». Дальтон ввел в химию понятие «атомный вес» и первым определил относительные атомные веса. За единицу атомного веса ученый предложил принять массу атома водорода, самого легкого элемента7. Химические реакции в теории атомизма определялись как процессы соединения и разъединения атомов.
В результате развития химии к середине XIX в. сформировалось ядро теории этой области знания. Это ядро складывается из «системы совместно определяемых исходных химических понятий», определения сути соединений и превращений вещества — хими-
ческой реакции, выражаемой языком специальных символов. Предметное различие физики и химии становится явным (см.: [14, с. 432]).
В конце XVIII в. начинают вырисовываться контуры экономической науки. Становление экономической теории, или «политической экономии», связано с именем шотландского мыслителя А. Смита (1723—1790), который назвал новую область знания «теорией богатства». В труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) он указывает на объективный или «естественный» (т. е. развивающийся вопреки воле отдельных лиц или законодателей) характер экономических отношений. «Естественный порядок»8 сам пробивает себе дорогу в этой сфере благодаря корыстным интересам индивидов, стремлению собственников к хозяйственной выгоде. Формируется модель «человека экономического», активность которого определяется прагматикой, утилитарными интенциями.
Главное положение учения А. Смита касается роли труда в жизнедеятельности общества. Источник богатства — труд; основной элемент хозяйственной (экономической) сферы — произведенный продукт, который становится товаром в отношениях обмена. Определенные условия — разделение труда, специализация, кооперация (на примере современной Смиту формы производства — мануфактуры) — способствуют повышению производительности труда, что в свою очередь приводит к умножению богатства. Производство экономических благ, например продуктов питания, удовлетворяющих базовые потребности, и экономические интересы находятся в отношениях перманентной взаимообусловленности. Произведенный продукт является не просто естественным (потребительским) благом, он содержит в себе
6 Закон Дальтона: давление смеси газов равно сумме парциальных (т. е. частичных) давлений всех ее компонентов, взятых по отдельности.
7 Сегодня эта единица у химиков неофициально называется дальтон (сокращенно «Да»).
8 «Естественный порядок» всё же, по А. Смиту, движим «невидимой божественной рукой». Позже, в неоклассической теории эта установка А. Смита уже трактуется как принцип «невидимой руки рынка».
и меновую стоимость. Единственно точное, действительное мерило меновой стоимости Смит усматривал в труде (см.: [4]). Именно затраченный труд позволяет сравнивать стоимости различных товаров9 при обмене, который по сути является обменом одного труда на другой. Данное положение получило в экономической науке название «трудовой теории стоимости».
Адам Смит — сторонник свободного рынка (обмена товарами, включая свободу торговли землей) и свободной конкуренции, которые играют решающую роль в экономическом развитии страны. Принцип свободы хозяйственной деятельности выдвигал также французский просветитель А. Р. Ж. Тюрго (1727—1781). Обмен и рынок — не только пространство действия объективных экономических закономерностей, но и условие оптимального распределения ограниченных ресурсов, жизнедеятельности общества в целом, считает А. Смит. При этом ученый осознает бедность как социальную проблему, не отрицая роль управления, регулирования, в том числе государственного (которому автор определяет границы), в национальных и особенно международных экономических отношениях. Смит первым обратил внимание на включенность экономики страны в международную систему разделения и кооперации труда, установив в качестве преимущественных такие отношения, как международное сотрудничество и торговля. Главные положения учения А. Смита находят творческое развитие в подходах и теоретических системах выдающихся ученых зрелого периода классической науки (XIX — начало XX в.): политэкономии К. Маркса, макроэкономических концепциях Дж. М. Кейнса («кейнси-анское направление» — теория государственно-монополистического регулирования капиталистической экономики), неоклассической теории экономики А. Маршалла и других (см.: [7, с. 183—184]).
9 Деньги А. Смит также считал товаром.
В конце XVIII — первой половине XIX в. начинается переосмысление знаний об истории человечества, развитие европейской исторической науки. Предпосылки данного процесса:
— нарастание темпов социально-экономических изменений в связи с развитием капиталистического производства, динамизмом политических перемен: буржуазные революции, начало постепенной демократизации общественных отношений в Европе, — что в целом дает основания для выдвижения гипотез о направленности и возможных закономерностях исторического процесса;
— общая рационалистская и объективистская установка стиля мышления эпохи Просвещения;
— выдающиеся достижения и развитие методологии в естествознании XVII — XVIII вв., которые формируют иную оптику во взглядах на исторические источники (возможность их анализа, сравнения и критики), демонстрируют научные способы открытия фактов.
Установка на объективное познание обусловила требование правдивости исторического знания, которое само, по мнению Вольтера, является важным условием движения к «царству разума». Русский журнал «Месяцеслов» (1790) также прямо наставлял: «.В историю ничего принимать не должно, что не основано на достоверных доказательствах» (цит. по: [13, с. 119]).
Франсуа Мари Аруэ (Вольтер) (1694—1778) наряду с другими французскими материалистами XVIII в. (Кондорсэ, Дидро) предпринимает выдающиеся усилия, чтобы противопоставить реальную (подтверждаемую фактами, которые не противоречат друг другу) историю прошлого провиденциалистской концепции епископа Ж. Б. Боссюэ, автора труда «Рассуждение о всемирной истории» (1681). Боссюэ, выделяя в истории эпохи, века и периоды в соответствии с библейскими указаниями и пророчествами, утверждал,
что Бог непосредственно управляет событиями мировой истории. Демистификация прошлого, объяснение хода исторических событий выбором и действиями людей служили для Вольтера высоким целям: борьбы с невежеством, цели разоблачения насилия, несправедливости и обмана как источника прошлых и настоящих «несчастий и бед» в назидание просвещенным потомкам. Воззрения Вольтера пронизаны идеей прогресса разума, человеческого самосознания, прогресса ремесел, искусств и наук. Исторический прогресс понимается как процесс перехода от неосознанности естественной жизни к сознательному, цивилизованному состоянию. К заслугам мыслителя следует отнести также критику европоцентристских концепций всемирно-исторического процесса. Вольтер в своей статье «История» для «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера включает в состав исторических источников разнообразные артефакты: обряды, монументы, медали.
Круг исторических свидетельств также расширил М. В. Ломоносов, включив в него помимо летописей, хроник и тому подобного этнографические наблюдения, данные сравнительного языкознания. Гениальный русский ученый успешно использовал в российской историографии аналитический метод (собрал 15 манускриптов и «сличал» их) (см.: [13]).
Философ и писатель Ш. Л. де Монтескье (1689—1755) обоснование идеи прогресса разума обогащает детерминистским подходом, объясняя особенности развития государств и народов законами географическими и климатическими причинами. Тюрго также находил причину развития в действии законов, определяемых человеческой волей. Один из первых апологетов идеи исторического прогресса, он усматривал его источник в совершенствовании разума, науки; в развитии городов, хозяйства и ремесел, возникновении книгопечатания, в разделении профессий, «неравенстве в условиях существования» (см.: [10, с. 121]).
«Решимость писать историю так, как она протекала в реальной действительности, без чудес и божьего промысла была огромным шагом навстречу истине», — отмечает Х. Н. Момджян, — но создание «последовательно научной картины исторического процесса» еще впереди [9, с. 126—127].
Блистательное и противоречивое Просвещение сменяется в XIX в. следующим этапом научного развития: эпохой зрелости классической науки и возникновения предпосылок неклассического типа рациональности.
Список литературы и источников
1. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь / [пер. с итал. И. Левиной и др.]. М.: Европа, 2011. 250 с.
2. Аристотель. О душе // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. Т. 1 / [ред. и авт. предисл.
B. Ф. Асмус]. М.: Мысль, 1978. С. 369—450.
3. Гельвеций К. А. О человеке // Сочинения: в 2 т. / К. А. Гельвеций; [сост. и общ. ред. X. Н. Мом-джяна]. Т. 2. М.: Мысль, 1974. С. 5—588.
4. Козырев В. М. Адам Смит: его роль в становлении экономической науки // Вестник РМАТ. 2012. № 2-3 (5,6). С. 48—58. EDN: QISSDV.
5. Кондорсэ Ж.-А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума / пер. И. А. Шапиро. М.: Соцэкгиз, 1936. XII, 265 с.
6. Лавуазье А. Л. Предварительное рассуждение из «Начального учебника химии» / пер. Т. В. Волковой; под ред. и с примеч. проф.
C. А. Погодина // Успехи химии. 1943. Т. 12. Вып. 5. С. 359—367.
7. Лазутина А. Л., Лебедева Т. Е., Андреев О. Е. Экономическая наука: теоретико-методологические аспекты становления и развития // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 1 (35). С. 179—185. EDN: YZEBWP.
8. Любарский Г. Ю. Рождение науки: аналитическая морфология, классификационная система, научный метод. М.: Языки славянской культуры, 2015. 192 с.
9. Момджян Х. Н. Французское Просвещение XVIII века: очерки. М.: Мысль, 1983. 447 с.
10. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; науч.-ред. совет:
В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семи-гин. Т. 4. М.: Мысль, 2010. 734 с.
11. Огурцов А. П. Философия науки эпохи Просвещения. М.: ИФРАН, 1993. 213 с.
12. Основы философии науки: учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш, Т. Б. Фатхи. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 603 с.
13. Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Ч. 2. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. 343 с.
14. Философия науки: учеб. пособие / под ред. А. И. Липкина. М.: Эксмо, 2007. 603 с.
15. Dalton J. A New System of Chemical Philosophy. Pt. 1. Manchester: S. Russell; London: R. Bickerstaff, 1808. VII, 560 p., 8 p. plates.
References
1. Agamben Giorgio. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Transl. by Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford Univ. Press, 1998. 228 p. Meridian: Crossing Aesthetics.
2. Aristotle. On the Soul, and Other Psychological Works. New transl. by Fred D. Miller, Jr. Oxford: Oxford Univ. Press, 2018. 352 p. Oxford World's Classics.
3. Helvétius Claude-Adrien. De l'homme, de ses facultés Intellectuelles, et de son education. T. 1. London: Forgotten Books, 2018. 469 p. (In French). Classic Reprint series.
4. Kozyrev V. M. "Adam Smit: His Role in the Economics". Vestnik RMAT = Vestnik RIAT 2-3 (5,6) (2012): 48-58. (In Russian). EDN: QISSDV.
5. Condorcet Marie Jean-Antoine-Nicolas de. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Nouv. éd. London: Forgotten Books, 2022. 390 p. (In French).
6. Lavoisier. "Discours préliminaire". Traité élémentaire de chimie. T. 1. Paris: Librairie Cuchet, 1789. v—xxxiii. (In French).
7. Lazutina A. L., Lebedeva T. E., Andreyev O. E. "Economic Science: Teoretiko-Metodologiches-kie Aspects of Formation and Development". In-novatsionnaya ekonomika:perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya 1 (35) (2019): 179—185. (In Russian). EDN: YZEBWP.
8. Lyubarskiy G. Yu. Birth ofScience: Analytical Morphology, Classification System, Scientific Method. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2015. 192 p. (In Russian).
9. Momdzhyan Kh. N. 18th Century French Enlightenment: essays. Moscow: Mysl', 1983. 447 p. (In Russian).
10. Insitiut filosofii RAN. New Encyclopedia of Philosophy. Scient. and ed. council: V. S. Stepin, A. A. Guseynov, G. Yu. Semigin. Vol. 4. Moscow: Mysl', 2010. 734 p. (In Russian). 4 vols.
11. Ogurtsov A. P. Philosophy of Science of the Age ofEnlightenment. Moscow: IFRAN, 1993. 213 p. (In Russian).
12. Kokhanovskiy V. P., Leshkevich T. G., Ma-tyash T. P., Fatkhi T. B. Fundamentals of the Philosophy of Science: study guide for postgraduate students. Rostov on Don: Feniks, 2004. 603 p. (In Russian).
13. Peshtich S. L. 18fh Century Russian Historiography. Pt. 2. Leningrad: Leningrad Univ. Publ., 1965. 343 p. (In Russian). 3 parts.
14. Lipkin A. I., ed. Philosophy of Science: study guide. Moscow: Eksmo, 2007. 603 p. (In Russian).
15. Dalton John. A New System of Chemical Philosophy. Pt. 1. Manchester: S. Russell; London: R. Bickerstaff, 1808. vii, 560 p., 8 p. plates.
Информация об авторах
Михайлина Светлана Анатольевна — кандидат философских наук, доцент, доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Россия, 124498, Москва, пл. Шокина, 1).
Попов Николай Александрович — аспирант кафедры философии, Самарский государственный экономический университет (Россия, 443000, г. Самара, ул. Заовражная, 5).
Information about the authors
Svetlana A. Mikhaylina — Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Associate Professor at the Institute of High-Tech Law, Social Sciences and Humanities, National Research University of Electronic Technology (Russia, 124498, Moscow, Shokin sq., 1).
Nikolay A. Popov — postgraduate student at the Department of Philosophy, Samara State University of Economics (Russia, Samara, Zaov-razhnaya str., 5).
Статья поступила в редакцию 15.08.2023. The article was submitted 15.08.2023.





 CC BY
CC BY
 87
87