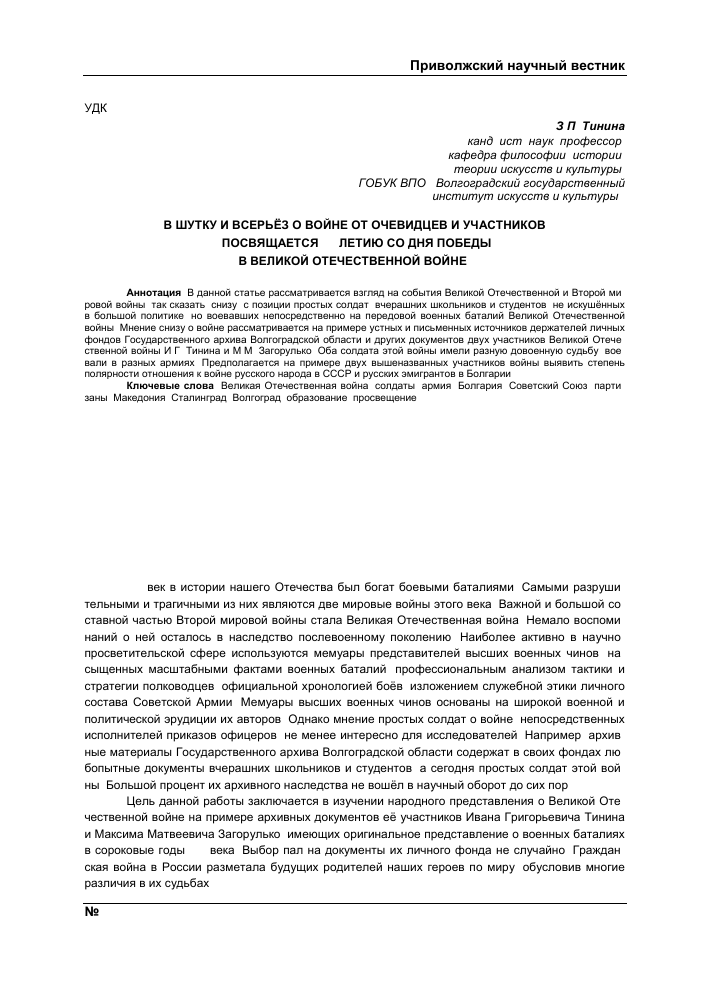УДК 930.85
З.П. Тинина
канд. ист. наук, профессор, кафедра философии, истории, теории искусств и культуры, ГОБУК ВПО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры»
В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ О ВОЙНЕ ОТ ОЧЕВИДЦЕВ И УЧАСТНИКОВ (ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)
Аннотация. В данной статье рассматривается взгляд на события Великой Отечественной и Второй мировой войны, так сказать, снизу, с позиции простых солдат, вчерашних школьников и студентов, не искушённых в большой политике, но воевавших непосредственно на передовой военных баталий Великой Отечественной войны. Мнение снизу о войне рассматривается на примере устных и письменных источников держателей личных фондов Государственного архива Волгоградской области и других документов двух участников Великой Отечественной войны И.Г. Тинина и М.М. Загорулько. Оба солдата этой войны имели разную довоенную судьбу, воевали в разных армиях. Предполагается на примере двух вышеназванных участников войны выявить степень полярности отношения к войне русского народа в СССР и русских эмигрантов в Болгарии.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, солдаты, армия, Болгария, Советский Союз, партизаны, Македония, Сталинград, Волгоград, образование, просвещение.
Z.P. Tinina, Volgograd State Institute of Arts and culture
JOKINGLY AND SERIOUSLY ABOUT THE WAR FROM EYEWITNESSES AND PARTICIPANTS
(POSVYASCHAETSYA 70-TH ANNIVERSARY OF VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR)
Abstract. This article discusses how to look at the events of the great patriotic war and World War II, so to speak, from below, from the perspective of ordinary soldiers, yesterday's pupils and students, not versed in big politics, but fought directly promoted military battles of the great patriotic war. The view from below is an example of oral and written sources of the holders of the personal collections of the State archive of the Volgograd region two participants of the Great Patriotic War I.G. Tinina and M.M. Zagorulko. Both soldiers of this war had a different fate, pre-war fought in different armies. For example, the two above mentioned war participants identify the polarity of the relations to the war of the Russian people in the Soviet Union and Russian emigrants in Bulgaria.
Keywords: World War II, Great Patriotic war, soldiers, army, Bulgaria, the Soviet Union, guerrillas, Macedonia, Stalingrad, Volgograd, education.
XX век в истории нашего Отечества был богат боевыми баталиями. Самыми разрушительными и трагичными из них являются две мировые войны этого века. Важной и большой составной частью Второй мировой войны стала Великая Отечественная война. Немало воспоминаний о ней осталось в наследство послевоенному поколению. Наиболее активно в научно-просветительской сфере используются мемуары представителей высших военных чинов, насыщенных масштабными фактами военных баталий, профессиональным анализом тактики и стратегии полководцев, официальной хронологией боёв, изложением служебной этики личного состава Советской Армии. Мемуары высших военных чинов основаны на широкой военной и политической эрудиции их авторов. Однако мнение простых солдат о войне, непосредственных исполнителей приказов офицеров, не менее интересно для исследователей. Например, архивные материалы Государственного архива Волгоградской области содержат в своих фондах любопытные документы вчерашних школьников и студентов, а сегодня простых солдат этой войны. Большой процент их архивного наследства не вошёл в научный оборот до сих пор.
Цель данной работы заключается в изучении народного представления о Великой Отечественной войне на примере архивных документов её участников Ивана Григорьевича Тинина и Максима Матвеевича Загорулько, имеющих оригинальное представление о военных баталиях в сороковые годы XX века. Выбор пал на документы их личного фонда не случайно. Гражданская война в России разметала будущих родителей наших героев по миру, обусловив многие различия в их судьбах.
В соответствии с целью предполагается решить следующие задачи: 1) путём историко-сравнительного метода и принципа историзма изучить архивный материал и выявить общее и особенное в условиях жизнедеятельности героев данной статьи в довоенный и послевоенный периоды; 2) показать историю складывания их менталитета в довоенный период; 3) сравнить мнение солдата Тинина и солдата Загорулько о своей службе в армии; 4) определить степень сходства и различия их мнений о войне.
Оба солдата Великой Отечественной войны имели разную довоенную судьбу.
Рисунок 1 - Тинин Иван Григорьевич. г. Волгоград, 1975 г.
Тинин Иван Григорьевич (19.06.1923-08.07.2007) - профессор волгоградских вузов; режиссёр; историк-публицист, краевед, просветитель; эксперт по церковной утвари, книгам, иконам. Заслуженный работник культуры СССР, орденоносец болгарского «Ордена за боевые заслуги», православного «Ордена Сергия Радонежского»; награждён медалями участника Великой Отечественной войны (рис. 1).
Иван Тинин родился в Болгарии в семье русских эмигрантов первой волны Григория Ивановича Никулина-Тинина и Анны Александровны Лавровой. Он разделил вместе с родителями все трудности эмигрантской жизни.
Рисунок 2 - Загорулько Максим Матвеевич. г. Волгоград, 1975 г.
Загорулько Максим Матвеевич (р. 23.08.1924) - первый ректор и почётный доктор Волгоградского государственного университета (1994 г.); почетный член учёного совета педагогического института города Остравы (Чехия, 1995 г.); почётный работник высшего образования России (1995 г.). Заслуженный деятель науки РФ, почётный гражданин города-героя Волгограда
(1998 г.), доктор экономических наук, профессор, академик (рис. 2).
Максим Загорулько появился на свет в многодетной казачьей семье Матвея Загорулько в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края. Он тоже разделил судьбу со своими родными, но в Советском Союзе. Жизнь не баловала его семью и не раз испытывала на прочность в собственной стране. Максим Матвеевич вспоминает, что его, шестилетнего мальчишку, лишили отца, несправедливо осудив Матвея в 1930 году по «политической» статье. Всех близких политического осуждённого выслали на поселение в село Дивное Ставропольского края, лишив гражданских прав и наделив их статусом ссыльных поселенцев. Жизнь семьи Загоруль-ко, особенно младших её членов, наполнилась унижениями и обидами. От озлобления и серьёзных ошибок спасла своих детей мать семейства Меланья Исаевна. Максим Матвеевич до сих пор с благодарностью вспоминает её женский подвиг. Она, несмотря ни на что, вырастила его самого и его младших брата и сестёр достойными гражданами, патриотами Отечества, не лишённых чувства юмора и доброты к людям [12, с. 16-21].
Оба подростка - Иван и Максим - не понаслышке испытали холод, голод и прочие неустроенности жизни в предвоенные годы. Однако пока Иван Тинин учился в Софийской русской классической гимназии (Болгария, 1929-1941 гг.), а затем в Софийском университете имени св. Климента Охридского, Максим Загорулько начал свои университеты, вместе с другой детворой станицы, на колхозных полях и в семейном приусадебном хозяйстве, помогая по дому. Здесь он мужал и учился не просто работать в поте лица, но и организовывать свой рабочий день так, чтобы хватало времени и на детский досуг. Обретённое умение организовывать себя ещё в родительских пенатах очень пригодилось ему в дальнейшем [12, с. 16-21]. Жёсткие условия жизни сказались на характере Максима Матвеевича: он вырос жилистым, выносливым, требовательным как к самому себе, так и к окружающим, максимально жизнеспособным и сильным духом.
Иван Тинин тоже начал трудовую деятельность с раннего детства: сначала служкой, а потом иподьяконом в Русской православной церкви св. Николая Угодника г. Софии (Болгария), где настоятелем был русский эмигрант архиепископ Серафим [Соболев] (1881-1950), Болгарской Православной Церковью после его смерти причисленный к лику святых. Воспитываясь в лоне церкви до самого окончания гимназии, Иван крепчал в вере, рос добрым, щедрым и, оправдывая своё имя, милостивым, снисходительным к чужим ошибкам и лёгким в общении. Главную роль в формировании его личности играла его мама Анна Александровна. Жалея мужа с увечьями от Первой мировой войны, отравленного газами в Галиции [1, с. 5-6], она, не имея постоянного места жительства и снимая квартиры в городах Дреново, София (Болгария), находила в себе силы и содержать семью, и помогать своему первенцу Ивану утверждаться в любви к русской культуре, к России в целом, которую её поколение потеряло в результате Первой мировой и Гражданской войн.
Так, обе русские матери, Меланья Исаевна в СССР и Анна Александровна в Болгарии, многое взяв на свои хрупкие женские плечи, буквально заслонили собой, как могли, своих детей [Анне Александровне не удалось сохранить жизнь своему младшему сыну Леониду, погибшему во время бомбёжки в г. Софии в 1944 году] [1, с. 5-6] от физического и духовного саморазрушения [10, л. 126-164], в конечном итоге подарив нам в равной степени сильных и мужественных солдат, защитников Родины в Великую Отечественную войну.
Интерес к документальным материалам Ивана Григорьевича и Максима Матвеевича вызван также их многолетней личной дружбой после войны.
Иван Григорьевич в возрасте 32-х лет приехал в 1955 году на жительство в Советский Союз вместе с семьёй: матерью Анной Александровной, женой Ариадной Михайловной Невей-новой (рис. 3), тоже родившейся в семье русских эмигрантов, и с двумя детьми дошкольного возраста - Иваном и Татьяной [3, л. 169; 10, л. 126-164].
Рисунок 3 - Ариадна Михайловна Невейнова. г. София (Болгария), 1953 г.
Разные судьбы двух личностей - Ивана Григорьевича и Максима Матвеевича - соприкоснулись друг с другом в общеобразовательной среде с 70-х годов XX века сначала в Волгоградском педагогическом институте (ныне университет), а затем в Волгоградском государственном университете. Несмотря на неравный карьерный статус (Максим Матвеевич был ректором обоих вузов, а Иван Григорьевич под его руководством служил рядовым старшим преподавателем) коллеги завидно умели дружить друг с другом. Причинами их нерушимой дружбы были общие воспоминания об участии в Великой Отечественной войне и общие задачи по воспитанию и обучению молодого поколения специалистов для страны в новых геополитических условиях (рис. 4).
Как участник Великой Отечественной войны Загорулько М.М. был награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». После войны к этим наградам добавились орден Отечественной войны I степени и юбилейные «победные» медали.
Максим Матвеевич на один год моложе Ивана Григорьевича, но так получилось, что ушёл на войну он на год раньше своего современника. Воспоминания Максима Матвеевича о своём участии в Великой Отечественной войне насыщены боевым духом, энергией, оптимизмом, уверенностью в победе над фашизмом. Скупым и строгим языком солдата Красной Армии и, одновременно, с задорным юношеским отношением к жизни Максим Матвеевич рассказывает, что был зачислен в Армию в 1942 году, после окончания десятилетки, когда ему было только 17 лет [12, с. 16-21]. Прибавив к своему возрасту ещё год, он добровольцем ушёл защищать
V
Рисунок 4 - Максим Матвеевич Загорулько даёт интервью о своей боевой молодости. г. Волгоград, 2014 г.
Родину. В качестве командира отделения юноша принял первый бой на подступах к Сталинграду, получил контузию и оказался в госпитале. После госпиталя Максим закончил успешно школу снайперов и снова стал рваться на фронт, но командование оставило его писарем при штабе. Рапорты и просьбы Максима по отправке его на фронт неизменно отклонялись.
«Тут подвернулся удобный случай. Начались осложнения недавней контузии». Максим снова попал в госпиталь и, подлечившись, уговорил военврача признать его годным и способным к строевой. На фронте он стал наводчиком «орудия полка самоходной артиллерийской установки 7-го механизированного корпуса РГК». В боях за Кривой Рог, Знаменку, Кировоград, Первомайск, Кишинев, Тирасполь, Лушины, в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, за Дебрецен, Будапешт, у озера Балатон, за Брно, Прагу и в войне с Японией Максим Матвеевич Загорулько неоднократно мог быть убитым. Но молитвы его матери Меланьи Исаевны, получившей однажды похоронку на сына, хранили его от смерти. Матушка так и сказала своему старшему сыну, когда тот в орденах и медалях вернулся домой: «Я тебя вымолила у Бога». Закончил войну Максим Матвеевич в Порт-Артуре в 1947 году и сразу, начиная с марта месяца того же года, он окунулся в дела строительства мирной жизни [2, 472 л.; 4, 13 л.; 5; 6; 7; 8; 9, 600 л.; 12, с. 16-21].
Другой характер воспоминаний о Великой Отечественной войне оставил нам после себя Иван Григорьевич Тинин. 1 сентября 1943 года студент Софийского университета имени св. Климента Охридского Иван Тинин перешёл на заочное отделение третьего курса этого вуза, а уже с 9 сентября начал службу солдатом на передовой, потом переводчиком Болгарской Армии в штабе 3-го Украинского фронта под руководством маршала Советского Союза Толбухина. На одном из ежегодных Дней историка на историческом факультете Волгоградского государственного университета Иван Григорьевич рассказал и о войне (он был вдохновителем и автором этих факультетских праздников в 90-е годы XX века). Его выступление на Дне историка в письменном варианте названо по тексту на фронтоне Дворца смеха в Габрово (Болгария): «Мир уцелел, потому что смеялся». С кафедры актового зала университета автор с присущей ему усмешкой объяснил, почему смех - достояние исключительно человечества и почему он назвал себя «полугабровцем» [11].
Рассказы с иронией о войне «нерадивого» солдата Тинина опубликованы в мемуарах Ивана Григорьевича и пересказаны близко к оригиналу журналистом А. Литвиновым. Журналисту удалось сохранить в своей статье шутливое настроение автора воспоминаний о его пленении сербскими партизанами, об отъезде Болгарской роты из Югославии (сегодня уже несуществующей страны) в Болгарию: «В самом начале 1944 года, когда новогодние празднества плавно перетекали в рождественские, Тинин скучал, сидя у телефона. Внезапно раздался звонок из штаба: «Завтра выезжаете в Болгарию. В восемь утра рота должна быть на железнодорожной станции».
- Ур-ра! - взвопил от такого известия Тинин...
Начальство, однако, в лице ротного командира поручика Винарова и ещё нескольких офицеров находилось в соседнем селе. Ясное дело - праздник всё-таки! Там же как-никак цивилизация - восемь кабаков, много женщин красивых.
Тинин направился в село ближайшей дорогой - напрямую, через горочку. Тут и перехватили его партизаны, внезапно выскочив из-за кустов. Обезоружили. «Руки вверх! - говорят. -Куда следуешь?»
Тинин добросовестно поведал партизанам о цели своего похода, что идёт сообщить командиру, что завтра его рота должна покинуть Югославию. Удовлетворив свой интерес, сербы стали решать - что делать с пленником? Решили, что проще всего расстрелять.
- Вот вы меня расстреляете, - предупредил их Тинин, - утром болгары хватятся меня, а не найдя, начнут вас бить!
Тогда вопрос поставили на голосование. Поскольку партизан было четверо, мнения разделились поровну: двое - за расстрел и двое - против.
- А, что же вы меня не спрашиваете? - возмутился Тинин. Я тоже должен принимать участие в голосовании как самая заинтересованная сторона!
- Ну, ты нахал... - вместо ответа изумились партизаны.
Посоветовавшись, всё же решили отпустить его по-доброму.
- Тогда уж винтовку отдайте! - потребовал Тинин. - Без винтовки мне прийти к начальству никак не возможно!
- Ну, ты нахал. - только и смогли ответить сербы.
Винтовку, однако, вернули, забрав лишь патроны.
Примерно часом позже Тинин уже был в селе. Гульбище там шло «на всю катушку», празднество в полном разгаре! Командир роты оказался в стельку пьян, а на коленях у него сидела полногрудая сербка по имени Цеца.
- Получен секретный приказ! - доложил Тинин командиру по уставу. - Завтра мы уезжаем в Болгарию!
Поручик - ноль внимания.
- Ты хоть ему объясни, - попросил Тинин Цецу после нескольких безуспешных попыток.
- Что-что? - возмутилась девица и, напирая на солдата грудью, загнала его в угол соседней комнаты, свалила в стенной шкаф, да там и заперла.
Долго Тинин сидел взаперти. Наконец, решился постучать.
- Войдите! - ответил ему кто-то сильно пьяным голосом.
- Да не «войдите», а впустите! - поправил Тинин собеседника. Собеседник открыл стенной шкаф и искренне удивился, увидев там Тинина.
- Ты что тут делаешь?
- Цеца меня сюда загнала, - ответил Тинин, - у меня важное сообщение из штаба.
В комнате сидели шесть офицеров, и никто не мог понять смысл появления солдата Ивана Тинина. Выбрав более или менее трезвого из них, Тинин всё же смог втолковать ему суть дела. Тот - бах! бах! бах! - разрядил в потолок всю обойму револьвера. В кабаке наступила тишина, и офицер сказал: «Секретный приказ! Уезжаем в Болгарию!».
Поручик Винаров моментально протрезвел, девки стали реветь, словно тёлки.
Рота тем временем, не дождавшись командира, отбыла на железнодорожную станцию. Узнав об этом, ротный командир разгневался, решил отдать под трибунал и расстрелять своего заместителя, а заодно и двоих фельдфебелей.
- Как можно, господин поручик? - вновь тут нашёлся Тинин. - Ведь на суде начнут расспрашивать да разбираться - а где вы сами были в это время? Могут ненароком узнать. Объявите вы им лучше благодарность, и дело с концом!
Поручик согласился:
- Молодец Тинин, - и обратился к офицерам и солдатам:
- Орлы! - сказал поручик, когда рота выстроилась по его приказу на железнодорожном вокзале. - В то время, когда я был занят решением важных стратегических вопросов, вы, проявив инициативу, самостоятельно и без потерь выдвинулись в район погрузки. Я представлю за это к наградам зам. командира роты и двоих фельдфебелей!
Вскоре погрузка началась. Тут, однако, что-то засвистело в воздухе да по вагонам защёлкало. Догадаться, что именно, было не трудно: начался обстрел. Партизаны стреляли с ближайшей горы.
Дверцы товарных вагонов в кратчайшее время захлопнулись. Поезд тронулся с места в карьер. Тинин, случайно оставшись снаружи, едва не отстал от него. Но, ухватившись за буфер предпоследнего вагона, он всё же уехал со станции: «Уехал я, - вспоминает Иван Григорьевич, - стоя на
буфере между вагонами, страстно благодаря всех железнодорожников мира за то, что они на товарных вагонах понаделали много различных крючков либо лесенок. А заодно с досадой думал - какая же это сволочь рассказала партизанам, что мы сегодня будем отъезжать в Болгарию?» [6].
Рисунок 5 - Иван Тинин - солдат Болгарской армии в составе 3-го Украинского фронта под руководством маршала Советского Союза Толбухина, награждённый орденом «За боевые заслуги». г. София (Болгария), 1945 г. В списке награждений Ивана Григорьевича имеется болгарский «Орден за боевые заслуги» с короной и кольтом, полученный им уже в 1945 году из рук Болгарского царя Симеона за освобождение высоток Ушите (Македония) в Великую Отечественную войну. Об эпизоде освобождения этих высоток солдат Тинин поведал так: «Я перешагнул через груду камней и побежал вперед к этим самым высоткам Ушите. Один солдат был ранен осколком насквозь прямо в грудь. поражено было правое легкое. Я отдал ему свой перевязочный пакет. Мы стянули ему рану плащ-палаткой, но кровь продолжала хлестать. Тогда я подсунул ему под плащ-палатку свою фляжку. Правая сторона его стала выше левой, и кровь вроде бы остановилась. Обнаружился еще один раненый в ногу. Но, слава Богу, кость не была задета. Мы перевязали и его. Наступил поздний вечер. Мы копошились в своем укрытии, зализывая раны, а немцы вдруг начали кричать нам сверху: «Болгар, Сталин капут!» Это заявление нас взбесило. Мы их отовсюду, правда, с потерями, но все же гнали, а они нам кричали про капут. Тогда ребята обратились ко мне как к единственному среди них русскому солдату: «Слушай, братушка, покрой их русским матом. Может, утихомирятся». И я крикнул: «Тысяча двести тридцать третья сибирская стрелковая дивизия вперед!» А сам спрятался. Немцы тоже притихли. Потом спросили: «Рус?». «Конечно, русские, трам-тара-рам (нецензурные слова)», - уверенно ответил я. Немцы чего-то залопотали на своем языке и перестали нас дразнить. Тут окончательно стемнело». Утром же на высотках Ушите не оказалось ни одного немца. Все решили, что это солдат Тинин русским матом выгнал их с высоток. Позднее за освобождение Ушите его представили к высокой награде [3, л. 169; 10, с. 149-150].
Иван Григорьевич был от природы одарён многими талантами. В частности, свой литературный дар он щедро расточал в стихах и прозе перед друзьями и коллегами - в праздники, на дни рождения и юбилеи. Есть у него зарифмованные строки и о боевом эпизоде за Ушите в Македонии:
Не надо падать ниц, По жизни егозя, Не чувствуя беды,
Несчастья - не цунами. Её проходим вспешку. С восходом и закатом -
Жизнь - это только блиц Не думая, ферзя Как не готовь ходы,
Тех, кто играет нами. Меняем мы на пешку. Кончается всё матом! [11].
О Второй мировой войне во время боевых баталий в солдатской и офицерской среде, по крайней мере, Болгарской армии, ходил анекдот, в котором очень метко определена сущность этой войны. Иван Григорьевич не мог не подарить нам этот анекдот в своих мемуарах:
«Шёл 1943 год. Рузвельту доложили, что к нему на приём пришёл посол Королевства Венгрии.
- Пусть войдёт, - сказал Рузвельт.
Посол вошёл, и Рузвельт спросил:
- Вы посол Королевства Венгрии?
- Да, сэр.
- Значит, у вас есть король?
- Нет, сэр. Короля у нас нет. У нас есть регент адмирал Хорти.
- А, у вас адмирал. Значит, вы имеете большой флот?
- Нет, ваша светлость. Наш флот забрали итальянцы ещё после той войны.
- Значит, в этой войне вы воюете против итальянцев?
- Нет, сэр. Они наши союзники в борьбе против Советского Союза.
- Вы, наверное, хотите получить какие-то территории от Советского Союза?
- Нет. Мы хотим вернуть себе Трансильванию от румын.
- Так вы, значит, воюете против Румынии?
- Нет. Она наша союзница против СССР.
- Так что же это такое? В чём же логика здесь? - спросил Рузвельт.
- А это такой новый порядок в Европе, придуманный Гитлером» [10, с. 149-150].
Оба участника Великой Отечественной войны были детьми своей эпохи. Сначала они разделили судьбу солдат этой войны, а затем, чудом оставшись живыми после её окончания, оба, каждый на своём месте, хранили народную память о войне и восстанавливали мирную жизнь. Однако условия жизни, созданные с рождения обоим молодым людям в разных странах, наложили свой отпечаток на характер и, в данном случае, на личное восприятие ими военных событий, участниками которых они оказались.
Максим Матвеевич в этом контексте представляется в образе юноши-максималиста, для которого никогда не существовало полутонов и оттенков. Отвечая на вопросы своего собеседника, он как-то подтягивается и выпрямляет спину, будто находится перед своим боевым командиром. Максим Матвеевич не просто отвечает на вопросы, а докладывает об эпизодах войны. В этих его рассказах нет военных шуток, повествование лаконично и построено краткими предложениями. При этом лицо рассказчика бывает освещено доброй улыбкой с хитрым прищуром глаз [фото 4].
Не менее противоречивое состояние души ощущается в рассказах о войне у Ивана Григорьевича, но оно несколько другого плана. Автор повествования кажется более открытым в своих эмоциях и выражениях. Его душа - когда-то православного иподьякона, сына русского эмигранта - будто готова распахнуться перед каждым собеседником, при этом с достоинством пытливого взгляда и доброй, какой-то извиняющейся улыбкой на лице [фото 1]. В нём не было того страха перед властью, который испытывал каждый советский человек во времена правления Сталина. Воспитанный русской дворянской средой в эмиграции, Иван Григорьевич привык выражать свои мысли открыто, но не громко, осторожно иронизируя над политиками, развязавшими бесчеловечную, бездарную и кровавую Вторую мировую войну. Он позволял себе иронизировать над офицерским составом и дисциплиной в Болгарской армии, где можно было быть солдатом и одновременно учиться заочно в университете, но уже будучи гражданином Советского Союза.
Намёки между строк, элементы эзопового языка мемуаров и других работ выдают Ивана Григорьевича, с одной стороны, как сдержанного рассказчика в своих публичных рассуждениях,
а с другой, как артистичную личность, владевшую литературным образным русским языком, каким изъяснялись дворяне Российской империи. Именно этим языком он изложил на память потомкам несколько иронических рассказов о своей службе, подчеркнув в них свою нерадивость и нелепость ситуаций, а также один народный анекдот о Второй мировой войне, который был популярен в Европе 40-х годов, и несколько собственных зарифмованных строк. Благодаря своему рождению в среде русских эмигрантов, бережно хранивших всё русское, что оставалось у них, в том числе и язык, Иван Григорьевич стал одним из преемников и обладателей русской культуры, усердно уничтожаемой на её Родине после октябрьских событий 1917 года.
В остальном же эти два солдата войны - Максим Матвеевич и Иван Григорьевич - как представители одного народа имеют много схожего. У них много общего по историческим условиям их личностного становления именно, их сближает общая боль потерь во Вторую мировую и Великую Отечественную войну и общие проявления патриотических чувств в борьбе за Родину, как бы она ни называлась.
Список литературы:
1. Волгоградский Иоанн Креститель: (интервью журналиста Т.И. Алябьевой // Альманах 2013 / под ред. Г.К. Лобачёвой; ред. совет: З.П. Тинина, О.И. Тужиков. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013.
2. Военнопленные о Сталинграде и о себе / под ред. М.М. Загорулько. 472 с.: ил. На правах рукописи // ГУ ГАВО. Ф. Р-821. Оп. 1. Д. 520.
3. Иван Григорьевич Тинин // Кто есть, кто в Волгограде и Волгоградской области: справ.-информ. альбом. Т. 1. Волгоград, 2007. С. 169 // ГУ ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 1.
4. Загорулько М.М. Альбом с вырезками из газет об истории создания Волгоградского государственного университета // ГУ ГАВО. Ф. Р-821. Оп. 1. Д. 82.
5. Загорулько Максим Матвеевич (1924) // ГУ ГАВО. Ф. Р-821. Оп. 2. 1917-1946 (плёнка).
6. Литвинов А. Под новый год меня едва не расстреляли партизаны [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 2001. 18 января. - Режим доступа: http://www.tininfamily.ru
7. М.М. Загорулько // ГУ ГАВО. Ф. Р-821. Оп. 1. Д. 845. Л. 1-5; Д. 846. Л. 1-10; Д. 847. Л. 1,2; Д. 848. Л. 1-3; Д. 849. Л. 1; Д. 850. Л. 1-10; Д. 851.
8. Материалы Китайской Академии социальных наук «Поиски направлений реформы и политики открытости». Ч. I. Оп. 3. Ед. хр. 1. (Электронные документы объёмом 14047 кб).
9. Творчество военнопленных о Сталинграде и о себе. 1946-1949. Документы и материалы / под ред. М.М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2006. 600 с.: ил. // ГУ ГАВО. Ф. Р-821. Оп. 1. Д. 521.
10. Тинин И.Г. Бытие. Исход. Второзаконие (история глазами очевидца). Династия Тини-ных и иже с ними. Воспоминания. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. 388 с. // ГУ ГАВО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 1.
11. Тинин И.Г. Мир уцелел потому, что смеялся // Тинин Иван Григорьевич и его семья: Гарики - Тиники [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tininfamily.ru
12. Тюменцев И.О. Максим Матвеевич Загорулько, портрет солдата, учёного, человека // Вестник ВолГУ. Серия 6. 2004. Вып. 7.





 CC BY
CC BY 41
41