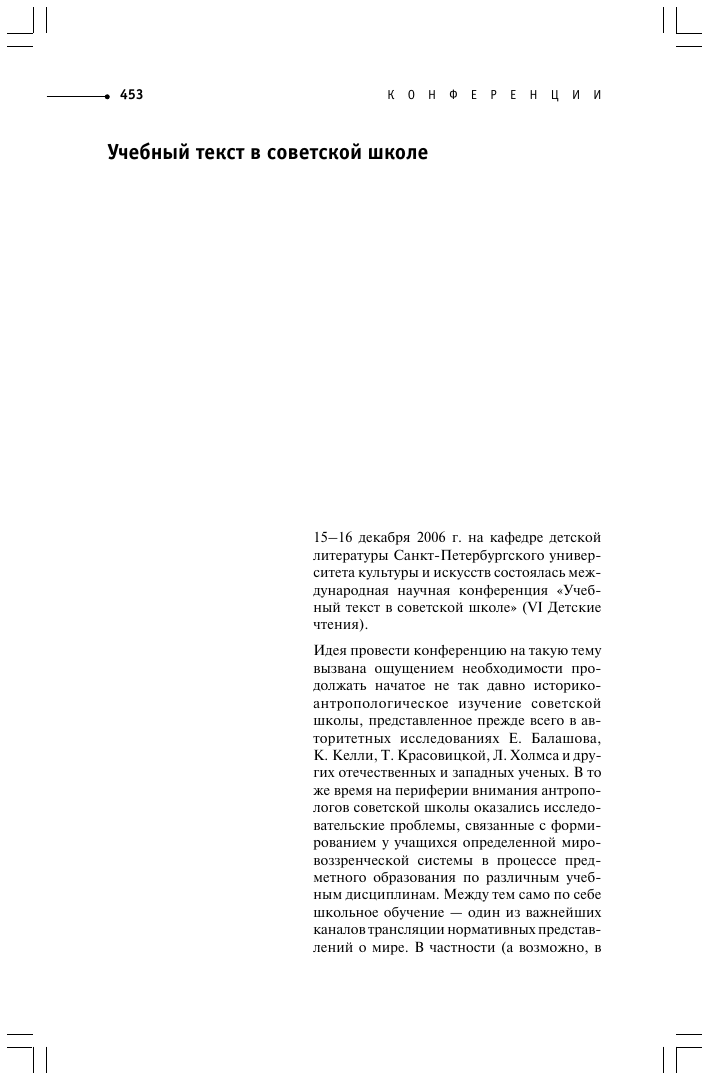Учебный текст в советской школе
15—16 декабря 2006 г. на кафедре детской литературы Санкт-Петербургского университета культуры и искусств состоялась международная научная конференция «Учебный текст в советской школе» (VI Детские чтения).
Идея провести конференцию на такую тему вызвана ощущением необходимости продолжать начатое не так давно историко-антропологическое изучение советской школы, представленное прежде всего в авторитетных исследованиях Е. Балашова, К. Келли, Т. Красовицкой, Л. Холмса и других отечественных и западных ученых. В то же время на периферии внимания антропологов советской школы оказались исследовательские проблемы, связанные с формированием у учащихся определенной мировоззренческой системы в процессе предметного образования по различным учебным дисциплинам. Между тем само по себе школьное обучение — один из важнейших каналов трансляции нормативных представлений о мире. В частности (а возможно, в
особенности), это относится к советской общеобразовательной школе — в высокой степени идеологизированному государственному институту, целью которого бышо прежде всего сообщение учащимся «всесторонних знаний».
Достаточно очевидно, что передача учащимся нормативных представлений (или «знаний») в процессе школьного обучения так или иначе происходит посредством конкретных текстов, зафиксированных в учебниках, хрестоматиях, наглядных пособиях, карточках с заданиями, написанных на доске или произнесенных на уроке. Для обозначения этого разнородного в структурном и содержательном отношениях, но единого в функциональном плане текстового массива организаторами конференции был предложен рабочий термин «учебный текст».
Целью конференции было сделать первый шаг к ответу на вопрос, каким образом учебные тексты, имевшие хождение в советской школе, служили средством конструирования «знаний» и какое знание они конструировали.
Конференция никоим образом не была научно-практической. Ее участники не ставили перед собой задач «поиска путей выхода из кризиса» или «устранения пережитков советской образовательной традиции». В выступлениях не звучало педагогических, психологических или методических интерпретаций, а общей методологической системой координат, объединившей все доклады, стали историко-филологический подход к анализу текста и антропологический взгляд на феномен советской школы.
Хронологические рамки, заданные темой конференции, спровоцировали нескольких ее участников обратиться к образовательным событиям 1920-1930-х гг. — периода, традиционно привлекавшего внимание авторов работ об эволюции «совет-скости» в разных ее проявлениях. Доклады, посвященные этому периоду, составили отдельный блок.
Самое наглядное воплощение методологические установки конференции получили в докладе Г.А. Орловой (Ростов-на-Дону) «Знать и видеть: географическая наглядность в эпоху больших утопий», посвященном географическим картам 1930-х гг. Интерес власти к географической карте был связан с особым медиальным статусом карты — визуализацией невидимого и достоверной репрезентацией пространства вместе со всеми помещенными в него объектами. Фотоиллюстрации к докладу позволили продемонстрировать, как учебная карта конструировала идеологическую версию географии советской страны.
§ В докладе С.Г. Леонтьевой (Санкт-Петербург) «Учебное кино в
э советской школе 1930-х гг.» было рассмотрено отношение
* многих педагогов к учебному кино как приоритетному способу
2 обучения, конкурирующему даже с «живым словом» учителя.
й К 1936 г. все дискуссии о «важнейшем из всех искусств» были
| закрыты, а «кинометод» поставлен в подчинение к стабильно-
« му уроку и учебнику. При обсуждении доклада возникла лю-
| бопытная параллель с внедрением компьютерных средств обу-
» чения в современной школе.
Доклад В.Г. Безрогова (Москва) «Пословица как учебный текст в советской школе начала 1930-х гг.» был посвящен внедрению в школьное преподавание пословицы как учебного текста. Докладчик представил историческую ретроспективу использования пословиц в школе: заголовки разделов, вопросы по темам, формулировки тем сочинений и пр., — а также прокомментировал одно сочинение 1932 г., написанное на паремио-логическом материале.
В докладе В.В. Барановой (Санкт-Петербург) «Уроки родного языка в греческих селах Приазовья в 1930-е гг. (по воспоминаниям учеников)» речь шла о перипетиях преподавания «родного языка» в период смены национальной политики в 1920-1930-е гг. Рецепция школьного обучения сказалась и на металингвистических представлениях уже в современных воспоминаниях греков.
Продолжению этой темы на русском материале, а именно обучению взрослых родному языку и чтению был посвящен доклад М.С. Костюхиной (Санкт-Петербург) «Учебники для взрослых: „мир в картинках"». В докладе были рассмотрены буквари, использовавшиеся в школах для взрослых в 1919— 1937-е гг. Динамический анализ поэтики учебных текстов (лексический состав, ритм и пр.) позволил показать, как в конце 1920-х гг. буквари для взрослых отразили сдвиг идеологической конъюнктуры: на смену романтическому бунтарю приходит рабочий у станка.
Проблематика конференции обусловила и особое внимание ее участников к учебникам и хрестоматиям для начальной школы: именно младшие классы были тем этапом образовательного процесса, когда советский ребенок становился советским учеником, а потому «обнаженность образовательного приема» в учебниках для начальной школы наиболее очевидна.
Картину советского детства по материалам букварей (преимущественно 1920-1930-х гг.) представила Катриона Келли (Оксфорд) «„Папа едет в командировку": репрезентация общественных и личных ценностей в советских букварях и книгах для
чтения». Главным нововведением советского времени было изображение идеальной семьи как образца культурного поведения — семьи из папы, мамы, Паши и Маши, которые слушают радио.
В докладе «Книги для чтения в 1920-е годы: старое и новое» A.A. Сенькина (Санкт-Петербург), проанализировав списки включенных в них произведений, сделала вывод о том, что специфичность новых, «красных» хрестоматий не в том, что в них появились откровенно агитационные тексты, а в том, что исчезли нейтральные рассказы о жизни школьника, детстве, стихи о природе, гигиене.
Ретроспективный экскурс, представленный в докладе М.В. Лес-кинен (Москва) «Учебники и хрестоматии для начальной школы как инструмент формирования „нового человека" последней трети XIX в.», продемонстрировал, что при ожидаемом различии между учебниками соседствующих периодов обнаруживаются неожиданные сходства. «Новый человек», которого воспитывала пореформенная начальная школа, должен был стать носителем рационального мышления и отличного от прежнего — традиционного — образа восприятия действительности.
На конференции прозвучало несколько докладов, которые отличались исключительно широким охватом материала. Е.Р. Пономарев (Санкт-Петербург) в своем докладе «Советский учебник по литературе как учебный текст (1930-1980-е гг.)»
опроверг устойчивый стереотип о том, что государственная идеология непосредственно влияет на учебник. Идеологические перемены 1956 г. (разоблачение культа личности Сталина) практически не проявились в тексте учебника. Напротив, существенные перемены учебника обусловлены идеологией Победы (национал-большевистской идеологией поздней сталинской эпохи), сложившейся к концу 1940-х гг.
В докладе A.A. Костина (Санкт-Петербург) «A.H. Радищев в советской школе» была прослежена динамика восприятия жизни и творчества писателя, изменение их соотношений в процессе обучения, в частности в связи со специфической «целомудренностью» школьной программы.
Другая группа докладов, напротив, строилась как развернутый анализ отдельно взятого учебника. С.Б. Aдоньева (Санкт-Петербург) в докладе «Мир по школьному учебнику. Математика. 4 класс» рассматривала то, как авторы учебника, изобретая сюжеты задач, как бы моделируют некую непротиворечивую с их точки зрения ситуацию.
A.C. Хаметова (Санкт-Петербург) в докладе «„Средневековье" в советских учебниках истории», продемонстрировав лексиче-
§ скую и визуальную клишированность идеологически предоп-
ределенных «знаний» о Средневековье, выявила способы кон* струирования стереотипных представлений о Средневековье и 2 его социальной организации.
0 и
£ Любопытный контекст к советскому учебнику по истории
1 составил доклад И.О. Ермаченко (Санкт-Петербург) «Классо-| вый подход в виртуальной школе (альтернативный учебник исто! рии на сайте РКСМ(б) и его ориентальные сюжеты)» — о современном молодежно-левацком проекте радикально идеологизированного «нового стандарта образования».
Доклад К.А. Маслинского (Санкт-Петербург) «Текстовые задачи по математике в средней школе», построенный на материале одного учебника (Виленкин и др. Математика, 4 класс, 1984), был посвящен задачам, содержащим нематематические реалии. Докладчик проанализировал частотность и сочетаемость существительных, характеризуя таким образом нормативные представления, проникшие в тексты задач.
М.Л. Лурье (Санкт-Петербург) в докладе «Камышовая поросль, стелющаяся растительность... (заметки о поэтике и прагматике школьного диктанта)» предложил соотнести школьные диктанты с малопонятными молитвами, магическими заговорами, бредовыми прорицаниями, речами на партийных съездах 1970— 1980-х гг., техническими инструкциями и прочими разновидностями текстов, в которых звучность в сочетании с бессмысленностью коррелирует с прагматикой манифестации или восстановления нормы. Такой функциональный подход к материалу проясняет взаимозависимость «учебного текста» и «учебной ситуации», что представляется весьма плодотворной перспективой в свете изучения и других учебных текстов.
Другой блок докладов составили выступления, посвященные образу «чужого» в школьном учебнике и, шире, проблеме этнических, политических, культурных границ в связи с учебным текстом.
В докладе Т.А. Кругляковой (Санкт-Петербург) «Образ кубинского сверстника в учебнике испанского языка» был показано постоянное повторение неинформативных сентенций в «достоверных рассказах», искажение страноведческих сведений, изображение кубинского школьника в строгом соответствии с жизнью советских детей и предложены объяснения этих наблюдений.
Другого «чужого» избрала для рассмотрения Э.Г. Васильева (Даугавпилс). В докладе «Стереотип русского на материале учебников по русской литературе для латышских школ советского периода» было рассмотрено специфическое положение «чу-
жой» русской литературы, связанное с особым статусом «большого брата», и выстроена шкала доминант характера русского писателя.
ДА. Олехнович (Даугавпилс) в докладе «Метод разоблачения фальсификации истории... или Сопоставительный анализ задач учителя истории при отборе учебников в период Второй мировой войны (на примере „Izglltlbas menesraksts" и „Исторического журнала")» рассмотрел формирование образа «чужого» в школьных программах по истории в оккупированной Латвии. Несмотря на кардинальные различия в интерпретации исторических фактов и в их тенденциозном отборе, источники отчетливо выражают стремление к героизации прошлого, к викти-мизации судьбы народа, а также конструируют культуртрегерскую роль немцев/русских в судьбах балтийских наций.
Осмысление парадигм национального педагогического дискурса в их зависимости от идеологического контекста было продолжено Беном Эклофом (Блумингтон), его доклад «История советско-американской комиссии по учебникам (1978—1988)»
занял особое место в этом ряду исследований, так как в нем был дан анализ «чужого» взгляда на учебники истории и географии. Докладчик поделился и своими воспоминаниями о процессе работы комиссии, членом которой он был, соображениями о конъюнктурных причинах неуспешности ее деятельности.
Закономерным направлением в работе конференции стали исследования педагогико-методического дискурса как такового. В докладе A.B. Тарабукиной (Санкт-Петербург) «Художественный мир нехудожественного произведения (Пушкин в методических пособиях для учителей)» была рассмотрена как «пушкинская мифология» методических разработок, так и приемы, рекомендуемые учителям для максимального усвоения этой мифологии школьниками.
Месту музыкального жанра в методических разработках посвятила свое выступление A.ro. Ллександрова (Санкт-Петербург) — «Массовая песня в советской школе (на материале экспериментальной программы Д.Б. Кабалевского по музыке для общеобразовательной школы)». Было рассмотрено, как советская массовая песня стала в этой программе той осью, вокруг которой формировался «мир музыки» советских детей.
n.A. Клубков (Санкт-Петербург) в докладе «О некоторых чертах педагогического дискурса 1960-х гг.» прокомментировал визуальную клишированность образов педагогических работников, причем как учителей-предметников («химички», «фи-зички» и т.д.), так и административного аппарата и обслужи-
§ вающего персонала. В докладе были намечены дальнейшие
э перспективы антропологического и социолингвистического
* изучения «образа» учителя.
О»
§ Проблеме влияния учебного текста на сознание учеников,
£ проекции изученного на жизненные практики был посвящен
I доклад Е.В. Маркасовой (Санкт-Петербург) «„Молодая Гвар-
| дия" в советской школе в 1947—1957 гг.». Особые приемы в
! преподавании романа приводили учеников к поэтизации об-
раза подпольщика, что отразилось в том, что многие из учащихся впоследствии стали членами подпольных молодежных организаций.
По твердой школьной привычке хочется упорядочить прозвучавшие доклады по предметам, изучаемым в советской школе. Наибольший интерес вызвала русская литература — семь докладов, и это закономерно: большинство участников конференции — филологи. Далее интерес распределяется следующим образом: история — пять докладов, чтение (в младших классах) — четыре доклада, математика — два, география — два, родной язык — один, иностранный язык (испанский) — один, русский язык — один, музыка — один. «Неохваченными» остались такие любопытные предметы, как физика, рисование, химия, физкультура, биология, домоводство, НВП (начальная военная подготовка), природоведение, информатика и другие. Хочется надеяться, что уже начатые исследования будут продолжены, а не представленные на конференции школьные предметы и их учебные тексты также найдут своего исследователя. Материалы конференции размещены на сайте «Антропология советской школы» по адресу <http://sovietschool. org.ru>.
Светлана Леонтьева, Кирилл Маслинский





 CC BY
CC BY 61
61