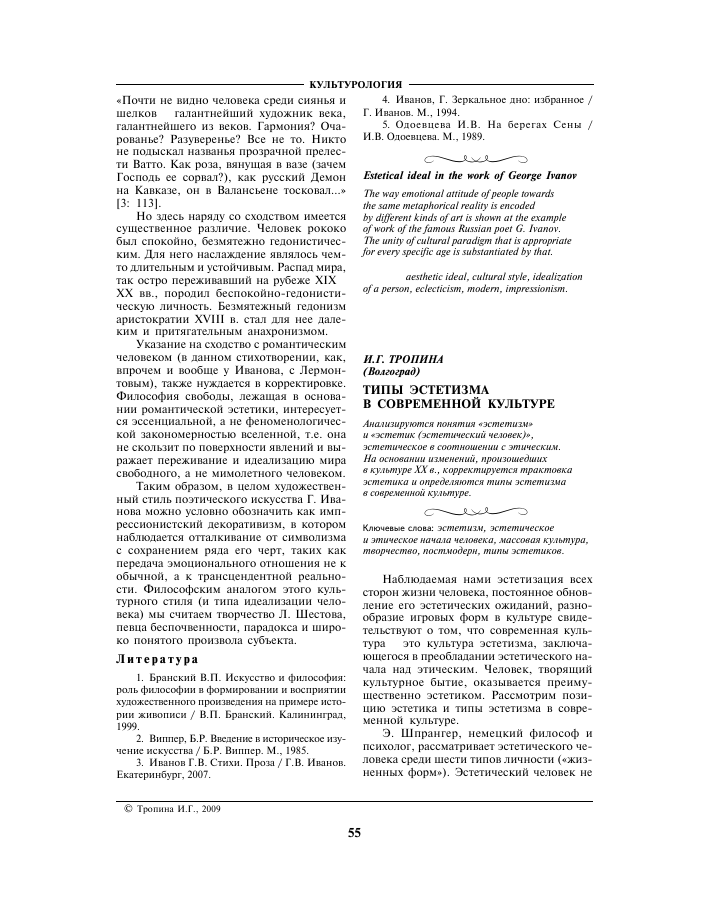«Почти не видно человека среди сиянья и шелков - галантнейший художник века, галантнейшего из веков. Гармония? Очарованье? Разуверенье? Все не то. Никто не подыскал названья прозрачной прелести Ватто. Как роза, вянущая в вазе (зачем Господь ее сорвал?), как русский Демон на Кавказе, он в Валансьене тосковал...» [3: 113].
Но здесь наряду со сходством имеется существенное различие. Человек рококо был спокойно, безмятежно гедонистическим. Для него наслаждение являлось чем-то длительным и устойчивым. Распад мира, так остро переживавший на рубеже XIX -XX вв., породил беспокойно-гедонистическую личность. Безмятежный гедонизм аристократии XVIII в. стал для нее далеким и притягательным анахронизмом.
Указание на сходство с романтическим человеком (в данном стихотворении, как, впрочем и вообще у Иванова, с Лермонтовым), также нуждается в корректировке. Философия свободы, лежащая в основании романтической эстетики, интересуется эссенциальной, а не феноменологической закономерностью вселенной, т.е. она не скользит по поверхности явлений и выражает переживание и идеализацию мира свободного, а не мимолетного человеком.
Таким образом, в целом художественный стиль поэтического искусства Г. Иванова можно условно обозначить как импрессионистский декоративизм, в котором наблюдается отталкивание от символизма с сохранением ряда его черт, таких как передача эмоционального отношения не к обычной, а к трансцендентной реальности. Философским аналогом этого культурного стиля (и типа идеализации человека) мы считаем творчество Л. Шестова, певца беспочвенности, парадокса и широко понятого произвола субъекта.
Литература
1. Бранский В.П. Искусство и философия: роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи / В.П. Бранский. Калининград, 1999.
2. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. М., 1985.
3. Иванов Г.В. Стихи. Проза / Г.В. Иванов. Екатеринбург, 2007.
4. Иванов, Г. Зеркальное дно: избранное / Г. Иванов. М., 1994.
5. Одоевцева И.В. На берегах Сены / И.В. Одоевцева. М., 1989.
Estetical ideal in the work of George Ivanov
The way emotional attitude of people towards the same metaphorical reality is encoded by different kinds of art is shown at the example of work of the famous Russian poet G. Ivanov.
The unity of cultural paradigm that is appropriate for every specific age is substantiated by that.
Keywords: aesthetic ideal, cultural style, idealization of a person, eclecticism, modern, impressionism.
И.Г. ТРОПИНА (Волгоград)
ТИПЫ ЭСТЕТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Анализируются понятия «эстетизм» и «эстетик (эстетический человек)», эстетическое в соотношении с этическим.
На основании изменений, произошедших в культуре XXв., корректируется трактовка эстетика и определяются типы эстетизма в современной культуре.
Ключевые слова: эстетизм, эстетическое и этическое начала человека, массовая культура, творчество, постмодерн, типы эстетиков.
Наблюдаемая нами эстетизация всех сторон жизни человека, постоянное обновление его эстетических ожиданий, разнообразие игровых форм в культуре свидетельствуют о том, что современная культура - это культура эстетизма, заключающегося в преобладании эстетического начала над этическим. Человек, творящий культурное бытие, оказывается преимущественно эстетиком. Рассмотрим позицию эстетика и типы эстетизма в современной культуре.
Э. Шпрангер, немецкий философ и психолог, рассматривает эстетического человека среди шести типов личности («жизненных форм»). Эстетический человек не
© Тропина И.Г., 2009
руководствуется мотивами познания, полезности, власти, любви или поиска высших ценностей. Эстетическое не имеет отношения и к моральным ценностям. Что касается интерсубъектных отношений, то «высшая форма эстетическо-социального отношения» - это эротика. Эстетический человек - индивидуалист, его особая мотивация - воля к форме, построение и оформление самого себя, универсализация эстетического видения.
Эстетизм, как пишет П.П. Гайденко, -это характеристика «жизненной позиции, сложившейся в определенную историческую эпоху и нашедшей свое отражение у целого ряда мыслителей и художников. Элементы эстетизма можно обнаружить в духовном творчестве многих эпох» [1: 85], он не является феноменом исключительно нашего времени. Признавая искусство высшей ценностью, романтический эстетизм признавал его способом примирения творящей личности с самой собой. Созерцание прекрасного, произведения искус -ства должно привести к гармонии. Для эстетизма искусство - храм, красота - бог, а художник - его жрец. Романтики, по сути, создают утопические доктрины преображения мира по законам искусства (Ф. Шиллер, Г. Ф. Шеллинг, У. Моррис и др.). Романтический эстетизм, таким образом, заключается в культе красоты и переоценке эстетического (его возвышении над этическим). Подобное понимание искусства свойственно и наследнику романтизма - модерну. Модерн начал проводить в жизнь тотальную эстетизацию. «Красота - вот наша религия», - известная фраза М. Врубеля. Декоративность, стремление облечь все - от обложки книги до жилища - в эстетическую форму, ориентация на любование формальным художественным приемом, так называемая концепция «удобного кресла», смешивающая материальную и духовную «пользу» искусства, -все это характеризует модерн. Жизнь есть искусство, «только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности» [2] - таков эстетизм модерна, локализующий свою утопию в тотальности искусства. Последующий процесс изменяет характер этой утопии: не искусство привносится в повседневность, а повседневность - в искусство (реди-мейд, поп-арт, перфор-манс и т. д.). По выражению Б. Гройса, искусство поглощает жизнь, поскольку
прекращается обмен между искусством и реальностью. «Новое в искусстве возникает тогда, когда художник обменивает традицию искусства на неискусство...»; в конце концов, «быть неискусством (т. е. жизнью, реальностью, повседневностью. -ИТ.) стало критерием искусства» [3].
Итак, эстетизм имеет свою историю. Однако именно в наше время «эстетический человек» стал преобладать в культуре. В первую очередь этому способствовала массовая культура.
Одним из признаков массового общества X. Ортега-и-Гассет выделил рост витальности, жизненной силы как таковой. Жизнь, ставшая основной «идеей» культуры XX в., согласно Г. Зиммелю, стремится «творчески излиться из самой себя» без подчинения форме как таковой. «Таким образом, отсутствует не только материал для органической идеи культуры, но даже самые явления, которые ей надлежало бы охватить, слишком многообразны, разнородны, чтобы допустить возможность их идейного объединения» [4]. Это неограниченное разнообразие жизни выражается в амбивалентном модерне (с его соревнованием открывателя и потребителя), а затем переходит в абсолютный плюрализм, «всеядность» постмодерна.
С. Кьеркегор, определяя экзистенциальную позицию романтиков, ведомых идеей свободы, описал два типа эстетика: непосредственного и демонического. Кьер-кегоровский этик показывает уничтожи-тельность эстетического принципа жизни: поскольку источник наслаждения находится вне наслаждающегося, он порабощает человека, предлагая ему иллюзорную свободу. Эстетик находится на такой ступени, когда ощущает полную свободу ото всего; эта позиция рождает аффект произвола (И.Г. Фихте), «истерию духа» (С. Кьеркегор). Эстетическое отношение к миру -отношение потребления, восприятие Другого не как цели, а как функции, инструмента наслаждения, удовлетворения определенной потребности, желания, прихоти. Эстетик видит в Другом лишь способ наслаждения, инструментализирует его. Тезис Кьеркегора «или - или» предполагает выбор. Выбор - шаг расставания с мнимой свободой эстетика, который на самом деле все время остается рабом своей непосредственности и произвола. Непосредственный эстетик предается чувственно-
му наслаждению не по своей злой воле, а потому, что выбор еще не совершен, он не принял на себя никакой ответственности, остается «по ту сторону добра и зла». Эстетик, сделавший выбор в пользу эстетизма (который есть проявление эгоизма, гедонистического и потребительского подхода к миру), по Кьеркегору, - это «демонический эстетик». «Демонический эстетик» - человек христианской культуры, знающий о различии добра и зла и сознательно выбирающий зло.
Размышления о современной культуре вносят свои коррективы в определение типов эстетизма (и эстетиков). С одной стороны, модернизм и массовая культура особым образом поставили проблему эстетизма: эстетическое стало прерогативой не только творца, но и потребителя, оно теряет силу и ценность преобразователя мира и превращается в необходимую составляющую человеческого существования, с другой - эстетическое в массовой культуре свелось к функции очарования, наслаждения. Искусство превращается в дизайн, фон, необходимый и постоянно меняющийся. Не случайно П. Гринуэй провозгласил «смерть кинематографа»: с появлением пульта дистанционного управления кино умерло как искусство, оставшись инструментальной эстетической ценностью убегающего от себя человека: ведь совершать побег от себя, постоянно меняя телеканал (т.н. channel surfing), намного проще, чем следить за развитием какого-либо образа, что требует усилий от личности.
Эстетик выглядит сквозь призму современной культуры следующим образом. Первый тип эстетизма - наивный эстетизм. Наивный эстетик рожден в обществе потребления, соблазнов, перманентного движения в поиске приложения своего свободного времени, целью которого является лишь само движение, в обществе, характеризуемом модальностью «желать» (И.П. Смирнов). Это, действительно, человек, не сделавший своего выбора и готовый потреблять все, что предлагает ему современная плюралистическая культура. Поскольку он не получает должного воспитания (в семье или социальном институте) и образования (в виду общей девальвации ценности знания), он оказывается фактически вне ситуации выбора (которого ему, конечно, не предлагает массовая культура). Наивный эстетик не знает или
не хочет знать возможности иного пути, кроме пути наслаждения посредством других. Наслаждение эстетика, которое имеет в виду Кьеркегор, это «не просто чувственное наслаждение “варвара”, как сказал бы Шиллер, напротив, речь идет о наслаждении человека в высшей степени утонченного, стоящего на вершине человеческой культуры» [1: 132]. Но современный наивный эстетик как раз такой, которого Ф. Шиллер или X. Ортега-и-Гассет как раз назвали бы «варваром», - современный варвар. Иначе - это массовый человек, потребитель. Современная массовая и - несколько шире - постмодернистская культура ориентируется в основном на подростка с его несформирован-ной идентичностью, непостоянством целей и желаний. Об эстетизме С. Кьеркегор писал следующим образом: «Эстетическим началом является в человеке то, благодаря чему он является тем, что он есть; этическим же - то, благодаря чему он становится тем, что есть» [5]. Применительно к психологическому развитию человека переход от эстетического к этическому означает становление личности, морального самосознания, т. е. обретение зрелой идентичности, что происходит в период от детского и подросткового к юношескому и зрелому возрасту. Антропологическая природа человека включает в себя и эстетическое (плотское, телесное), и этическое (душевное), и религиозное (духовное) начала. Эстетическое - чувственное -то, что осваивается ребенком, который получает наслаждение от ощущений (ощупывает, пробует на зуб). «Эстесис» есть, в первую очередь, ощущение, чувствование. Эстетическое, таким образом, - это начало, которое в современном мире противопоставляется этическому, которое мы понимаем как всеобщее начало в человеке. Анализируя положение эстетического в современном обществе, немецкий философ и социолог Б. Хюбнер приходит к выводу, что после упадка метафизики стал виден «принудительный» статус эстетики, не нуждающейся ни в трансцендентальном, ни в прагматическом, ни в любом другом фундаментальном обосновании. Таким образом, эстетическое мыслится Б. Хюб-нером как начальная стадия развития человека. Наивный эстетик - подросток не столько по возрасту, сколько по своему психологическому складу. Недоросль,
описанный Ортега-и-Гассетом, - вечный подросток в состоянии диффузной идентичности. В нравственном отношении он может быть определен как потребитель (в мотивациях - прагматик, по мироощущению - жизнелюб, индивидуалист и «релятивист») или конформист (мотив этого социально пассивного типа - «быть как все») [6]. Недоросль не является непосредственным творцом культуры, однако включается в круговорот эстетического, ибо эстетика в современном мире требует постоянного обновления и производства. Очарование эстетического должно бы нести успокоение современному эстетику. Однако он оказывается в ситуации постоянной аффектации, поскольку должен соответствовать все новым требованиям эстетического. Это происходит, как представляется, именно потому, что «этический человек живет во временном континууме, филотопически, целеустремленно, вертикально; эстетический человек живет во временном дисконтинууме, от мгновения к мгновению, топофобически, в отторжении, пространственно, горизонтально» [7: 62]. Иными словами, в современном обществе, где человек не ощущает себя творцом своей жизни (вообще каким бы то ни было творцом), он цепляется за любую предлагаемую ему видимость причастности к «всеобщей» (которая, как известно, обернулась массовой) культуре, в первую очередь - за любую моду, которая создает спрос на такую внешнюю оболочку, которую всегда можно поменять. Ориентируясь на телесное, эстетик пресыщается, доходит до агедонии, поэтому ищет другие пути. Можно согласиться, что эстетик - «де-проецированный человек» (Б. Хюбнер), т. е. не способный к постоянной трансценденции, а вынужденный все время репроецировать себя на эстетическое Другое (т. е. соблазнителя).
Второй тип эстетика - это соблазнитель (демонический эстетик, в кьеркего-ровской терминологии). Среди эстетиков этого типа были и Ф. Ницше, и английский эстет О. Уайльд (с его провозглашением искусства как высшей реальности, которой подражает жизнь) с зеленой гвоздикой в петлице, будоражащий своими произведениями и поведением умы молодых англичан. Современный демонический эстетик, соблазнитель, - это, во-первых, современный художник. Слово «со-
временный» в этом словосочетании значит создающий искусство в тех специфических условиях, которые сложились в настоящее время. Этот тип соблазнителя -художник-постмодернист, если под постмодернизмом понимать именно «говорение от лица всей культуры». Отношение большинства современных художников как к творчеству, так и к человеку характеризует пример, приведенный Б. Хюбнером: «Один известный испанский архитектор в ответ на критику - мол, его жилища в одном жилом комплексе Мадрида непригодны для проживания - лишь цинично заявил: я не строю жилища, я создаю архитектурные произведения» [7: 21]. Современное визуальное искусство (инсталляции, акции и хэппенинги) также является творением индивидуализированного общества «растекающейся модернити» (З. Бауман), каждый член которого лишен долговременного целеполагания и ценностных ориентаций, способен лишь на наслаждение «моментом», кратковременное очарование. Это позволяет отнести к эстети-кам-соблазнителям и создателей современного разножанрового визуального творчества. Например, «человека-собаку» О. Кулика, и австрийского художника Г. Нит-ча, практикующего псевдоритуальное заклание и расчленение животных; участники акций наслаждаются посредством тактильных ощущений от теплой плоти и крови. К типу соблазнителя-художника мы отнесем и большинство современных режиссеров, показывающих жизнь в ее телесности, преобразующих все, включая насилие - в игру (типичный пример - фильмы К. Тарантино, жанры «нуар» и «трэш», современная «гламурная чернуха» - «Семь кабинок» Ф. Бондарчука и др.).
На одной плоскости, но с противоположной стороны от соблазнителя-худож-ника находится следующий тип эстетика -соблазнитель-имитатор. Нетворческое творчество масс создает соблазнителя как производителя массовой культуры, имитатора, дилетанта, способного взяться за любой процесс. В связи с этим на первый план выдвигаются шоу- и телезвезды, поп-исполнители, актеры определенного имиджа, популяризирующие эстетический образ жизни. Высшим благом эстетик, как заметил Кьеркегор, считает красоту, здоровье, богатство, почет, влюбленность (влюбленный ценит исключительно себя,
в отличие от действительно любящего). Обилие передач, посвященных кулинарии и здоровому образу жизни, дизайну и моде, поиску многочисленных «вторых половинок», - знаки эстетического общества. Телеведущий в такой ситуации занимает особое место проводника культуры. Ему при этом остается заниматься только самопозиционированием, жить в созданном образе, в маске. Интересен при этом феномен К. Собчак. Ее успешность без какого-либо производства и творчества (в отличие от Р. Литвиновой, ориентирующейся все-таки на актерский талант), основана, по-видимому, на потребности массового человека верить в свое безоблачноэстетическое будущее при минимуме способностей.
Итак, следующий тип эстетика может быть назван, по-видимому, подражателем со-блазнителя-имитатора, наивным имитатором. Он смежен с типом наивного эстетика. Вследствие деинституализации (М. Дюф-рен) и демократизации искусства творчество каждого отдельного индивида (не являющегося, впрочем, индивидуальностью) становится равным любому другому творчеству. Действительные произведения искусства релятивизируются, Ван Гог или Достоевский, к примеру, вдруг объявляются «попсой» из-за растиражированнос-ти созданных ими образов в массовой культуре. Наивные эстетики поддаются соблазну как приглашению занять свое место среди творцов масскульта, ибо их стремление к творчеству, безусловно, высоко, однако тоже лишь в рамках эстетического самовыражения. НТП с лихвой дает возможности как технические, так и финансовые для осуществления любых арт-про-ектов (к примеру, доступность компьютерной техники и широкое распространение фестивалей видеоискусства в молодежных кругах) и самопрезентаций, тем более что творчество - естественная потребность человека.
Предрасположенность культуры, искусства к этическому зависит, как представляется, от духовного состояния той эпохи, в которой человек творит, а скорее, даже той части общества, которая является творческой элитой (по И.П. Смирнову - доминирующим психотипом эпохи, т. е. творцом культуры). Культура вырабатывает собственный идеал, который
реализуется в художественном творчестве. Однако современность с ее принципиальной плюралистичностью не может определяться через какой-либо общезначимый этический идеал. В современной культуре эстетизма искусство становится мало похожим на тот вершинный пласт культуры, о котором еще грезил модернизм, поскольку постмодернизм предпочитает говорить от лица всей культуры, что оказывается проигрышной позицией: «... Получив ее, мы оказываемся не в состоянии породить какой-либо смысл, который бы не был порожден до нас» [8].
Есть повод предполагать, что в современном обществе эстетический человек вытеснил человека этического. Современная культура, когда имеет место упадок нравственности и религии, акцентирует эстетическое как наслаждение и потребление. Религии заменили эрзац-религии, в том числе искусство, но искусство именно в функции очарования. Искусство становится способом универсализации человека.
В целом эстетический тип в современном обществе, как представляется, не всегда сведен к какому-либо конкретному: возможен взаимопереход, обусловливающийся, в том числе, размытием границ между элитарным и массовым, редукцией функций искусства, неспособностью человека к долговременному целеполаганию, стремительностью и дискретностью времени. Эстетизм как жизненная позиция характеризует современное общество, однако, по сравнению с кьеркегоровским пониманием этого явления, эстетизм нашего времени обусловлен и такими качествами культуры, как массовость, подражательность, оторванность от творчества, постмодернистский плюрализм.
Литература
1. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена Киркего-ра / П.П. Гайденко. М.: Искусство, 1970.
2. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эл-линство и пессимизм // Ф. Ницше // Так говорил Заратустра. Казус Вагнер. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. Антихрист. Ессе Иошо: сб. / пер. с нем. М.: НФ «Пушкинская библиотека»: АСТ: АСТ-МОСКВА, 2006. С. 72.
3. Гройс Б. Утопия и обмен / Б. Гройс. М.: Знак, 1993. С. 6, 7.
4. Зиммель Г. Конфликт современной культуры / Г. Зиммель / / Культурология XX век: Антология. М.: Юрист, 1995. С. 384.
5. Кьеркегор С. Наслаждение и долг / С. Кьеркегор. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1998. С. 276.
б.Зеленкова И.Л. Этика / И.Л. Зеленкова, Е.В. Беляева. Минск: НТ ООО «Тетра Системс», 1997. С. 237 - 241.
7. Xюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики / Б. Xюбнер. Минск: Пропилеи, 2000. С. 62.
8. Смирнов И.П. Бытие и творчество / И.П. Смирнов. СПб.: Канун, 1996. С. 29.
Types of aestheticism in the modern culture
The notions of “aestheticism ” and “aesthetic ”, aesthetic by the contrast with ethic are analyzed. Based on the changes happened in the culture of the XX century the interpretation of aesthetics is corrected, and types of aestheticism in modern culture are defined.
Key words: aestheticism, aesthetic and ethic origin of a person, mass culturea, творчество, postmodern, types of aesthetics.
В.Ф. ПОЗНИН (Санкт-Петербург)
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И МИСТИФИКАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКРАННОГО ПОСТМОДЕРНА
Рассматривается проблема виртуализации действительности в аудиовизуальных средствах массовой информации и коммуникации в различных ее проявлениях - от откровенной мистификации и дезинформации до придания постановочным эпизодам в фильмах и телепередачах иллюзии документальных съемок.
Ключевые слова: постмодерн, мистификация, аудиовизуальное творчество, виртуализация, средства массовй информации и коммуникации.
Уже с самых первых своих шагов кинохроника начинает не только фиксировать реальные события, но и имитировать их. Широко известен случай с Ж. Мелье-сом, снявшим репетицию процедуры коронации Эдуарда VII, которая в прокате выдавалась за съемку самого события.
Сегодня, в период постмодернизма, когда многие его адепты воспринимают действительность как бесконечное зрелище, а понятия истины, аутентичности, этики мало что значат, в экранных произведениях, выдаваемых за документальные, можно все чаще встретить имитацию явлений реальной действительности, выдаваемых за саму действительность, мистификации и розыгрыши. В какой-то мере это можно объяснить тем, что современный постиндустриальный мир, живущий в ускоренном темпе, не в силах поспеть за реальными изменениями в жизни людей и потому создает свою, виртуальную реальность. «Это мир, где все большую роль играет симулирование действительности в средствах массовой информации, фиктивность и конструктивизм в социальной среде и трудовом мире, где человеческий опыт утрачивает чувственную осязательность... Заменимость естественного материала искусственным и технические возможности позволяют действовать в высшей степени независимо от ограничений материала и окружающей среды» [1].
В нашей стране появление постмодернистских мистификаций связано со временем «перестройки», когда журналисты наперегонки начали творить мифологию «от противного». Параллельно создавались новые мифы, мистификации, розыгрыши. Всем памятны телепередачи, в которых талантливый композитор С. Курехин на полном серьезе доказывал, что В.И. Ленин - гриб; в газетах и журналах в это время печатаются истории о населяющих московское метро крысах-мутантах в человеческий рост, о Кольской сверхглубокой скважине, из которой, якобы, с диким криком вылетело странное крылатое существо, и т. п. Журналист А. Белкин публикует в «Огоньке» мистифицированные небылицы, устраивает в филиале Эрмитажа выставку быта никогда не существовавшего народа и т. п.
Сегодня традиция создания разного рода мистификаций продолжается. На Первом канале уже который год тележурналист Андрей И. ведет программу «Искатели», в которой ищет разгадку очередного как будто реального события, но до разгадки дело так и не доходит. Фильм екатеринбургских кинематографистов «Пер-
© Познин В.Ф., 2009





 CC BY
CC BY 175
175