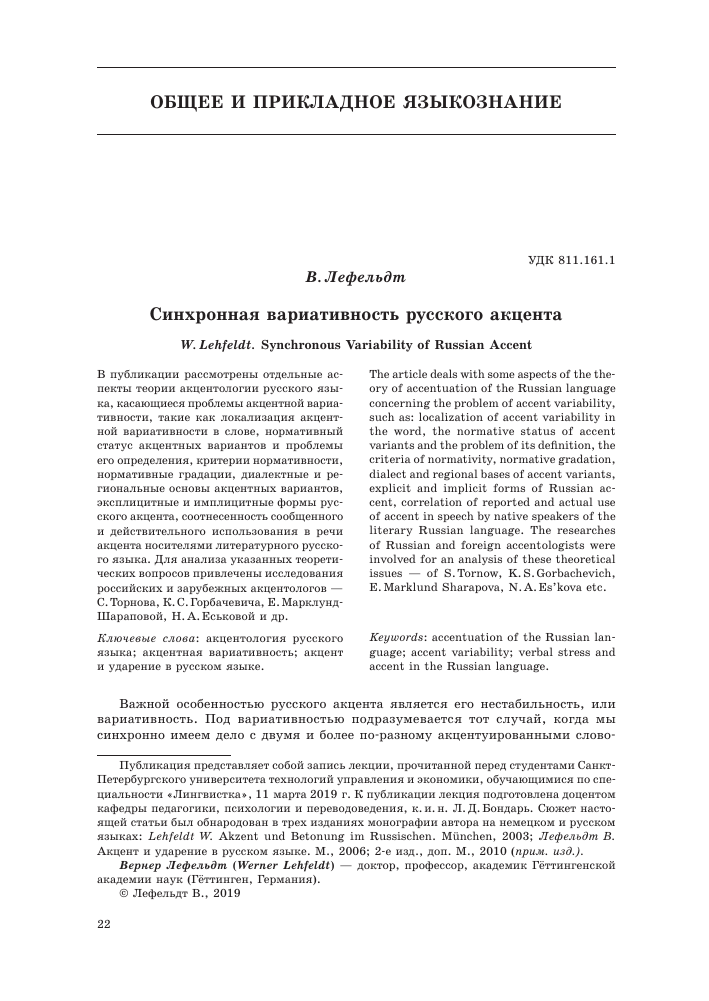общее и прикладное языкознание
УДК 811.161.1
В. Лефельдт
Синхронная вариативность русского акцента
W. Lehfeldt. synchronous Variability of Russian Accent
В публикации рассмотрены отдельные аспекты теории акцентологии русского языка, касающиеся проблемы акцентной вариативности, такие как локализация акцентной вариативности в слове, нормативный статус акцентных вариантов и проблемы его определения, критерии нормативности, нормативные градации, диалектные и региональные основы акцентных вариантов, эксплицитные и имплицитные формы русского акцента, соотнесенность сообщенного и действительного использования в речи акцента носителями литературного русского языка. Для анализа указанных теоретических вопросов привлечены исследования российских и зарубежных акцентологов — С. Торнова, К. С. Горбачевича, Е. Марклунд-Шараповой, Н. А. Еськовой и др.
ключевые слова: акцентология русского языка; акцентная вариативность; акцент и ударение в русском языке.
The article deals with some aspects of the theory of accentuation of the Russian language concerning the problem of accent variability, such as: localization of accent variability in the word, the normative status of accent variants and the problem of its definition, the criteria of normativity, normative gradation, dialect and regional bases of accent variants, explicit and implicit forms of Russian accent, correlation of reported and actual use of accent in speech by native speakers of the literary Russian language. The researches of Russian and foreign accentologists were involved for an analysis of these theoretical issues — of S. Tornow, K. S. Gorbachevich, E. Marklund Sharapova, N. A. Es'kova etc.
Keywords: accentuation of the Russian language; accent variability; verbal stress and accent in the Russian language.
Важной особенностью русского акцента является его нестабильность, или вариативность. Под вариативностью подразумевается тот случай, когда мы синхронно имеем дело с двумя и более по-разному акцентуированными слово-
Публикация представляет собой запись лекции, прочитанной перед студентами Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, обучающимися по специальности «Лингвистка», 11 марта 2019 г. К публикации лекция подготовлена доцентом кафедры педагогики, психологии и переводоведения, к. и. н. Л. Д. Бондарь. Сюжет настоящей статьи был обнародован в трех изданиях монографии автора на немецком и русском языках: Lehfeldt W. Akzent und Betonung im Russischen. München, 2003; Лефельдт В. Акцент и ударение в русском языке. М., 2006; 2-е изд., доп. М., 2010 (прим. изд.).
Вернер Лефельдт (Werner Lehfeldt) — доктор, профессор, академик Гёттингенской академии наук (Гёттинген, Германия).
© Лефельдт В., 2019
формами, которые не различаются никакими своими прочими значениями: ни лексическим, ни грамматическим, ни на уровне выражения. Феномен вариативности принадлежит к самым важным отличительным чертам современной русской акцентной системы.
Результатом акцентной вариативности могут стать случаи, когда происходит _перемещение акцента в плоскости основа — флексия, либо когда носителями акцента становятся различные морфы основы. Примерами для первого случая являются: баржа — баржа, избу — избу, моста — моста, ведомостей —
г ^ Л ' Л ' / ^ V г г г
ведомостей, деньгам — деньгам, арбы — арбы, волны — волны, кружит — кружит. Для второго случая: мышление — мышление, кладбище — кладбище,
г г г г г Г Г г
отсвет — отсвет, искус — искус, договор — договор, тигровый — тигровый, мускулистый — мускулистый, счастлив — счастлйв, искриться — искрить-
г г г г г -Л Л
ся, премировать — премировать, ржаветь — ржаветь, продал — продал, заснеженный — заснежённый.
Наблюдения специалистов свидетельствуют о том, что феномен вариативности принадлежит к самым важным отличительным чертам современной русской акцентной системы. Так, согласно К. С. Горбачеву, в русском языке насчитывается до 5000 (в разных публикациях автор указывает разное количество: 3500 и 5000) общеупотребительных слов [1, с. 99; 2, с. 55], для которых зафиксировано колебание в ударении. При этом, по наблюдению С. Торнова над общим лексическим фондов русского языка и лексическим фондом наиболее употребительных слов [3, S. 21], возможность употребления лексемы с разным акцентом увеличивается в зависимости от увеличения частотности ее употребления: «Чем чаще употребляется какая-либо русская лексема, тем вероятнее возможность употребления ее форм с разными акцентами» [3, S. 469].
В первую очередь возникает вопрос о нормативном статусе акцентных вариантов. Владение акцентной нормой литературного русского языка служит опознавательным знаком высокой языковой культуры. По словам О. А. Лаптевой, акцент является «лакмусовой бумажкой языковой культуры» [4, ^ 51]. «Неверное ударение, — подчеркивает она, — не оправдывается ни разговорностью речи, ни ее экспрессивностью, ни ее территориальной принадлежностью». Об этом же говорит К. С. Горбачевич: есть «немало слов, произношение которых служит как бы лакмусовой бумажкой уровня речевой культуры» [1, ^ 85].
Долгое время русисты, занимающиеся проблемами разработки акцентной нормы, довольствовались простым делением акцентных вариантов на допускаемые в рамках кодифицированной нормы и стоящие за ее пределами. Однако в новейшее время выработалась более гибкая концепция, предполагающая многоступенчатость нормативности, представленная, в частности, Н. А. Еськовой в ее «Кратком словаре трудностей русского языка». Исследовательница предлагает следующие нормативные градации [5, с. 9 сл.].
1. Два равноправных варианта, соответствующие норме: баржа — баржа, волнам — волнам, искристый — искристый, прочны — прочны, ржаветь — ржаветь, крошится — крошится.
2. Два соответствующих норме варианта, один из которых выделяется как основной, второй — как допустимый, который хоть и является менее желательным, но не считается неправильным (в словаре Н. А. Еськовой сопровождается пометой «допустимо»): творог — доп. творог, мизерный — доп. мизерный, крепки — доп. крепки., зайндеветь — доп. заиндеветь, шевелйтся — доп. шевелится, отдал — доп. отдал. Еще один вариант, помеченный как «допустимо-устаревающий», отражает меньшую желательность использования, подчеркивая при этом факт, что этот вариант
является постепенно исчезающим: индустрия — доп.-устар. индустрия, рекам — доп.-устар. рекам, пуховый — доп.-устар. пуховой, видны — доп.-устар. видны, уменьшить — доп.-устар. уменьшить, белит — доп.-устар. белйт, собрался — доп.-устар. собрался.
3. Не рекомендуемый вариант акцентуации, который, хотя и «не так сильно компрометирует речь того, кто их употребляет», все же для тех, «кто стремится к образцовой речи, эти варианты противопоказаны» (помета «не рекомендуется» или «не рекомендуется-устаревающее»): алфавйт — не рек. алфавит, библиотека — не рек. библиотека.
4. Ненормативный вариант, противоречащий литературной норме (помета «неправильно»): агент — неправ. агент, кухонный — неправ. кухонный, облегчйть — неправ. облегчить, облегчённый — неправ. облегченный.
5. Наиболее удаленный от литературной нормы вариант, крайне компрометирующий речь тех, кто их употребляет (помета «грубо неправильно»): магазйн — грубо неправ. магазин, ходатайствовать — грубо неправ. ходатайствовать, хозяева, хозяевам — грубо неправ. хозяева, хозяевам, инженеры — грубо неправ. инженера.
Вариативность акцента может иметь диалектное или региональное происхождение, хотя, согласно наблюдениям, влияние диалектов на акцентную вариативность не имеет особенно большого веса в современном литературном языке [1, с. 89 сл.; 6, с. 17 сл.]. Так, примерами диалектизмов, согласно К. С. Горбаче-вичу, являются: дальневосточное кета (норм. кета), южновеликорусское верба (норм. верба), северновеликорусское девочкам (норм. девочкам). Есть примеры, не специфицируемые точно: ремень (норм. ремень), весело (норм. весело), брала (норм. брала).
Распространенным явлением является акцентная вариативность, проявляющаяся в профессиональной лексике. Здесь форма, не являющаяся литературной нормой, является своего рода нормой в определенной профессиональной среде. В словаре Н. А. Еськовой приводятся многочисленные пары акцентных вариантов, характерных для литературного и профессионального языков [5]: у медиков шприца, шприцом и т. д. (норм. шприца, шприцем), массажа, массажй (норм. массажа, массажи), афазйя (норм. афазия), прикус (норм. прикус), эпилепсйя (норм. эпилепсия); у моряков трюма (норм. трюмы), боцмана (норм. боцманы); в профессиональной речи шофера (норм. шофёры), шпателя (норм. шпатели), штекера (норм. штекеры), анкера (норм. анкеры), бампера (норм. бамперы), вектора (норм. векторы), рефлектора (норм. рефлекторы) и т. д. [5; 7; 8, с. 84 сл.; 9, с. 785 сл.]. В книге, выпущенной под редакцией Л. П. Крысина, приводится пример того, что социальная маркированность акцентных вариантов распространяется не только на лексику определенных профессиональных групп, но может относиться к любым группам людей, как, например, множественное число слова стакан, которое в среде алкоголиков и бездомных приобретает форму стаканы в отличие от нормированного стаканы [8, с. 86].
Необходимо отметить, что классификации акцентных вариантов различаются в отдельных исследованиях, и разные словари, даже вышедшие примерно в одно время, предлагают отличающиеся нормы [10]. Такими особенностями характеризуются, например, «Орфоэпический словарь русского языка» [11], охарактеризованный Зализняком как «самый авторитетный и самый детализированный источник сведений по русской литературной норме» [12, с. 3], и справочник «Русское произношение и правописание» [13]. Э. Марклунд-Шарапова рассмотрела 2982 глагольные формы из этих двух словарей [10, р. 292]; классификация акцентных вариантов совпадала только в 48,9% случаев (1459 примеров), в 46%
случаев (1373 слова) один словарь приводил варианты, полностью отсутствующие в другом словаре. Собственно различия касались 5% случаев (150 примеров) и могли быть большими или меньшими. Аналогичные наблюдения находим у Н. С. Валгиной [14] и С. К. Пожарицкой [15, с. 237].
В целом, в русском литературном языке в определенном смысле отсутствует единая кодифицированная норма. Задаваясь этими вопросами, Е. Марклунд-Шарапова пришла к заключению, что нет единодушия в предписаниях и нет оснований говорить о существовании объективной нормы, а каждый из исследователей по сути реализует собственный субъективный вывод, отталкиваясь от рекомендаций предшественников [10, с. 93]. Более того, неоднородность кодифицированной нормы возрастает по мере сравнения все большего количества нормативных словарей и справочников.
Некую концепцию установления норм пытался наметить К. С. Горбачевич, который, предваряя свой «Словарь трудностей современного русского языка» [16, с. 5], называет три критерия, на которые нужно опираться в определении «нормативности тех или иных языковых фактов»:
1) массовость и регулярность употребления;
2) общественное одобрение данного языкового явления;
3) соответствие этого факта основным тенденциям в развитии языка, исторической перестройке языковой системы.
Отсутствие примеров и пояснений, каким образом можно установить наличие указанных критериев, снижает ценность этих указаний. Неясным остается вопрос о том, как следует поступать, когда два критерия вступают в противоречие: например, общественное одобрение и соответствие тенденциям развития языка.
Поскольку не существует твердой кодифицированной акцентной нормы, у носителей русского языка нет возможности ориентироваться на единую норму даже тогда, когда они этого хотят: кодификации вариантов акцента не совпадают в различных справочниках; в одном справочнике могут кодифицироваться варианты, полностью отсутствующие в других.
На какую же акцентную норму фактически ориентируются носители русского языка? Каковы образцы имплицитной нормы (в отличие от эксплицитной, кодифицированной)? И насколько фактически используемая имплицитная форма («действительный узус», по определению Е. Марклунд-Шараповой) совпадает с тем, что носитель языка утверждает при опросе («сообщенный узус»)?
Ответ на эти вопросы попыталась найти Е. Марклунд-Шарапова при помощи двух различных тестов, в результате чего ей удалось установить сообщенный и действительный узус для 106 московских носителей русского литературного языка: сообщенный узус для 292 глагольных форм и действительный — для четверти из них. Выяснилось, что во многих случаях имплицитная и кодифицированная нормы значительно расходятся, даже если они одинаково или примерно одинаково зафиксированы в самых авторитетных словарях. Ярким примером является нормативное акцентуирование возвратной частицы -ся в словоформах обнялся, воспринялся, заперся, начался. Большинство опрошенных, между тем, воспринимали акцент на -ся как некорректный, и у него был низкий сообщенный узус [10, с. 202]. Другой пример — форма включишь, которая вопреки нормативной включишь, являлась имплицитной для 85,8% опрошенных [10, с. 218].
Еще один пример — акцентуированное проклитики в тактовой группе не дало, которое кодифицировано как нормативное. Между тем, нормой его признало меньшинство опрошенных (12,2%), но не употреблял ее никто из них [ср. 17]. Этот факт позволил Е. Марклунд-Шараповой прийти к выводу о том, что акцент
né дало, являясь эксплицитной нормой, имплицитной не является, фактически он оказывается заменен акцентов не дало, что необходимо учитывать при кодификации [10, с. 190].
Исследовательнице удалось установить процент несовпадения сообщенного и действительного узуса: они не совпадали в 23,3% всех исследованных случаев. Часты были также случаи, когда опрошенные утверждали, что употребляли вариант, кодифицированный как несоответствующий норме, в то время как на самом деле не употребляли его [Там же, с. 223].
Проведенные исследования подводят к вопросу о том, каким образом можно получить достоверную информацию о распространенности вариативности акцента в современном русском языке. Важно побудить носителей русского языка сообщить о том, какую из двух возможностей (а в некоторых случаях — из нескольких возможностей) акцентуирования словоформы они употребляют и какую считают соответствующей норме или общепринятой традиции. Форма планирования и получения информации зависит от того, на что конкретно направлен интерес акцентолога: на имплицитную норму, на узус и т. д. Вопросы оптимального количества информантов для получения достоверных информантов и способа обработки полученных данных освещены в книге «Акцент и ударение в русском языке» [18].
Литература
1. Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка: пособие для учителей. М.: Просвещение, 1978. 240 с.
2. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма (на материале современного русского языка). Л.: Наука, 1978. 238 с.
3. Tornow S. Die häufigsten Akzenttypen in der russischen Flexion. Berlin; Wiesbaden, 1984. 531 p.
4. Лаптева О. А. Говорят по радио и с телеэкрана: поведение словесного ударения // Русская речь. 1997. № 4-5.
5. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка. М.: Русский язык, 1994. 448 с.
6. Хазагеров Т. Г. Ударение в русском словоизменении. Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1985. 208 с.
7. Воронцова В. Л. Ударение и его роль в номинации // Способы номинации в современном русском языке. М.: Наука, 1982. С. 123-133.
8. Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация / отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Яз. славян. культуры, 2003. 565 с.
9. Еськова Н. А. Нормы русского литературного языка XVIII-XIX веков: ударение, грамматические формы, варианты слов: словарь, пояснительные статьи. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2008. 960 c.
10. Marklund Sharapova E. Implicit and Explicit Norm in Contemporary Russian Verbal Stress. Uppsala univ. Libr., 2000. 302 p.
11. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка. 6-е изд. М.: Русский язык, 1997. 686 с.
12. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение: около 110 000 слов. 4-е изд. М.: Рус. словари, 2003. 794 с.
13. Введенская Л. А., Червинский П. П. Русское произношение и правописание: словарь-справочник. Ростов-н/Д: Феникс, 1996. 607 с.
14. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие. М.: Логос, 2003. 304 с.
15. Пожарицкая С. К. Орфоэпия: идеи и практика // Язык и речь: проблемы и решения: сб. науч. тр. к юбилею проф. Л. В. Златоустовой / под ред. Г. Е. Кедровой и В. В. Потапова. М.: Макс Пресс, 2004. С. 231-238.
№ 1 (65)•2019
В. H. Бычков
16. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: более 14 000 слов. СПб.: Норинт, 2003. 509 с.
17. Ukiah N. Stress retraction in phrases of the type на день, за сорок, нё был in modern Russian // Russian Linguistics. 1998. Vol. 22. P. 287-319.
18. Лефельдт В. Акцент и ударение в современном русском языке. 2-е изд., доп. М.: Яз. славян. культуры, 2010. 288 с.
УДК 81
В. Н. Бычков
обоснование филологической теории перевода в системе филологических и лингвистических
дисциплин
V. N. Bychkov. Philological Translation Theory in the system of Philological
and Linguistic sciences
В статье рассматриваются основополагающие вопросы филологии по отношению к лингвистике и другим лингвистическим дисциплинам в качестве обоснования филологической теории и модели перевода. Перевод и семантическая интерпретация анализируются в качестве филологических универсалий, производные которых являются эквивалентностью и адекватностью.
Ключевые слова: филология; филологическая теория перевода; лингвистические и семиотические знаки; семантика лексико-синтаксических единиц; эквивалентность и адекватность; методологические основы; перевод и интерпретация как филологические универсалии.
Контактные данные: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А.
The subject-matter of the article is some fundamental problem of philology in relation to general linguistics and other linguistic sciences as the general basis of philological translation theory. Translation and semantic interpretations are analysed as philological universals which in their turn are products of equivalence and adequacy demands.
Keywords: philology; philological translation theory; linguistic and semiotic signs; semantics of lexico-synthetic unit; equivalence and adequacy; methodological bases; translation and interpretation as philological universals.
Contacts: Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103.
Непосредственный повод для написания данной статьи и для окончательного выбора именно такого ее названия был связан с необходимостью разработки нового, достаточно ординарного по форме и содержанию учебного курса под названием «Филологический анализ текста». Ординарного в том смысле, что изложение в нем должно быть максимально четким, логичным и, самое главное, понятным по существу излагаемого материала для любого студента-старшекурсника. Это, с одной стороны, а с другой — желательно, чтобы искомая простота не противоречила основным уже общепринятым филологическим, лингвистическим и переводческим
Валерий Николаевич Бычков — доцент Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, кандидат филологических наук, доцент. © Бычков В. Н., 2019





 CC BY
CC BY 13
13