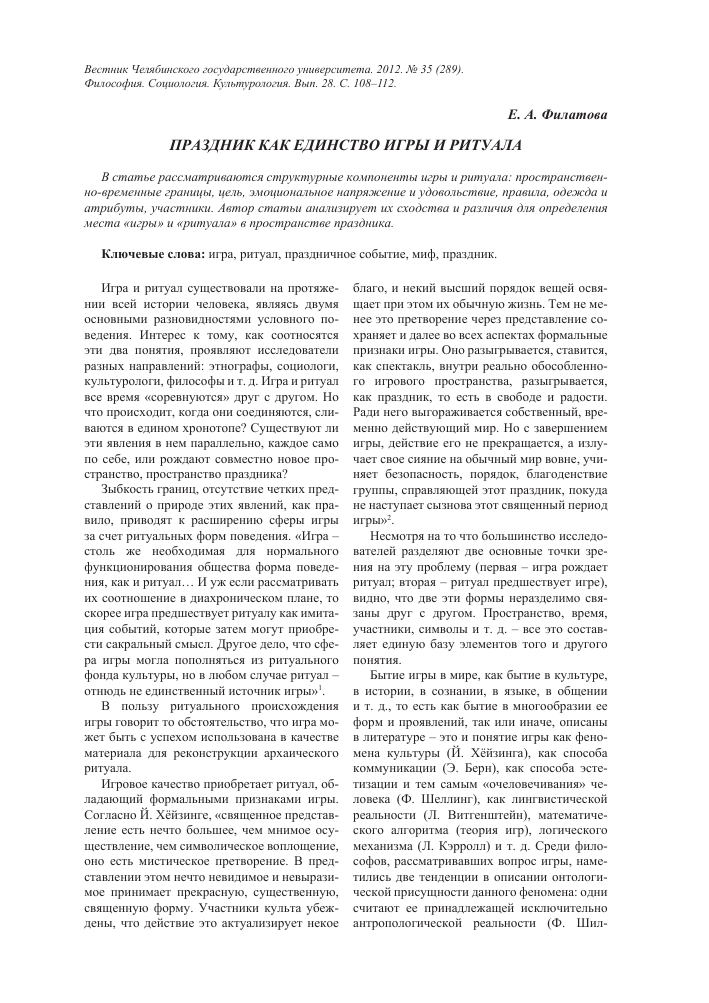Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 35 (289).
Философия. Социология. Культурология. Вып. 28. С. 108-112.
Е. А. Филатова ПРАЗДНИК КАК ЕДИНСТВО ИГРЫ И РИТУАЛА
В статье рассматриваются структурные компоненты игры и ритуала: пространственно-временные границы, цель, эмоциональное напряжение и удовольствие, правила, одежда и атрибуты, участники. Автор статьи анализирует их сходства и различия для определения места «игры» и «ритуала» в пространстве праздника.
Ключевые слова: игра, ритуал, праздничное событие, миф, праздник.
Игра и ритуал существовали на протяжении всей истории человека, являясь двумя основными разновидностями условного поведения. Интерес к тому, как соотносятся эти два понятия, проявляют исследователи разных направлений: этнографы, социологи, культурологи, философы и т. д. Игра и ритуал все время «соревнуются» друг с другом. Но что происходит, когда они соединяются, сливаются в едином хронотопе? Существуют ли эти явления в нем параллельно, каждое само по себе, или рождают совместно новое пространство, пространство праздника?
Зыбкость границ, отсутствие четких представлений о природе этих явлений, как правило, приводят к расширению сферы игры за счет ритуальных форм поведения. «Игра -столь же необходимая для нормального функционирования общества форма поведения, как и ритуал... И уж если рассматривать их соотношение в диахроническом плане, то скорее игра предшествует ритуалу как имитация событий, которые затем могут приобрести сакральный смысл. Другое дело, что сфера игры могла пополняться из ритуального фонда культуры, но в любом случае ритуал -отнюдь не единственный источник игры»1.
В пользу ритуального происхождения игры говорит то обстоятельство, что игра может быть с успехом использована в качестве материала для реконструкции архаического ритуала.
Игровое качество приобретает ритуал, обладающий формальными признаками игры. Согласно Й. Хёйзинге, «священное представление есть нечто большее, чем мнимое осуществление, чем символическое воплощение, оно есть мистическое претворение. В представлении этом нечто невидимое и невыразимое принимает прекрасную, существенную, священную форму. Участники культа убеждены, что действие это актуализирует некое
благо, и некий высший порядок вещей освящает при этом их обычную жизнь. Тем не менее это претворение через представление сохраняет и далее во всех аспектах формальные признаки игры. Оно разыгрывается, ставится, как спектакль, внутри реально обособленного игрового пространства, разыгрывается, как праздник, то есть в свободе и радости. Ради него выгораживается собственный, временно действующий мир. Но с завершением игры, действие его не прекращается, а излучает свое сияние на обычный мир вовне, учиняет безопасность, порядок, благоденствие группы, справляющей этот праздник, покуда не наступает сызнова этот священный период игры»2.
Несмотря на то что большинство исследователей разделяют две основные точки зрения на эту проблему (первая - игра рождает ритуал; вторая - ритуал предшествует игре), видно, что две эти формы неразделимо связаны друг с другом. Пространство, время, участники, символы и т. д. - все это составляет единую базу элементов того и другого понятия.
Бытие игры в мире, как бытие в культуре, в истории, в сознании, в языке, в общении и т. д., то есть как бытие в многообразии ее форм и проявлений, так или иначе, описаны в литературе - это и понятие игры как феномена культуры (Й. Хёйзинга), как способа коммуникации (Э. Берн), как способа эстетизации и тем самым «очеловечивания» человека (Ф. Шеллинг), как лингвистической реальности (Л. Витгенштейн), математического алгоритма (теория игр), логического механизма (Л. Кэрролл) и т. д. Среди философов, рассматривавших вопрос игры, наметились две тенденции в описании онтологической присущности данного феномена: одни считают ее принадлежащей исключительно антропологической реальности (Ф. Шил-
лер, Е. Финк), другие расширяют границы ее бытия до животного сообщества (З. Фрейд, Й. Хёйзинга), третьи универсализируют игру до уровня космической всеобщности (Платон, Г. Гегель, Х.-Г. Гадамер). Столь разные исследовательские подходы к игре, противоречиво-парадоксальные толкования свидетельствуют о ее бытийной значимости.
Несмотря на активное изучение игры, на сегодняшний день наиболее значимой в культурологии остается работа «Ното Ludens» Й. Хёйзинги. Он пишет: «Всякая игра что-то значит. Назвать активное начало, которое придает игре ее сущность, духом - было бы слишком; назвать же его инстинктом - было бы пустым звуком. Как бы мы его ни рассматривали, в любом случае эта целенаправленность игры являет на свет некую нематериальную стихию, включенную в самое сущность игры»3.
Наиболее ярко целенаправленность игры проявляется в празднике. В хронотопе праздника она всегда связана с праздничным событием. Разворачиваясь в рамках мифа (а праздничное событие есть со-бытие двух и более индивидуумов, группы, рода, основанное на общепринятом мифе, который разворачивается в сакральном пространстве-времени), а точнее сказать, являясь инструментом раскрытия мифа, игра по мимо выполнения своей развлекательной функции наделяется смыслом. Принимая участие именно в такой игре, человек включается в праздничное событие.
Миф можно считать образным претворением бытия. С помощью мифа люди пытаются понять земное, помещая основания человеческих деяний в область сверхчувственного. В каждом из тех причудливых образов, в которые миф облекает все сущее, изобретенный дух играет на грани шутливого и серьезного. Если рассматривать миф как основу культа, то все священнодействия, которые совершало раннее общество, служат ему (обществу) залогом благополучия мира; совершаемые освящения, жертвоприношения, мистерии «рождаются» в ходе чистой игры в самом прямом смысле этого слова. В мифе и культе, зачинаются великие движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение и предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, ученость, наука. И все они, таким образом, уходят корнями в ту же почву игровых действий.
Наделенная праздничным мифическим смыслом, игра близка к ритуалу. Ритуал всегда совершается ради чего-то, ради достижения цели (удачной охоты, вызова дождя, продолжения рода и т. п.), реализуется, как и игра, по определенным правилам.
Рассмотрим, как проявляют себя «игра» и «ритуал» в контексте праздника.
1. Пространственно-временные границы. И ритуал и игра «разыгрываются» (обратим внимание, что слово «разыгрываются» одинаково применимо как к понятию «игра», так и к понятию «ритуал») в определенных границах места и времени. Игра и ритуал имеют начало и конец. В процессе «разыгрывания» есть движение вперед и назад, чередование, очередность, завязка и развязка. С критерием временной ограниченностью непосредственно связано еще одно качество игры и ритуала. Они сразу же закрепляются как культурные формы. Однажды «сыгранные», они остаются в памяти как некое духовное творение или духовная ценность, передающаяся от одних к другим.
Всякий ритуал протекает в заранее обозначенном пространстве, материальном или мысленном, преднамеренном или само собой разумеющемся. Примем во внимание, что какое бы то ни было различие между игрой и священнодействием формально отсутствует, и что игра протекает в тех же формах, что и сакральное действие, так и сакральное место формально неотличимо от игрового пространства.
Игра как культурный факт выделяется из общего процесса экзистенции своими пространственно-временными границами. Она обязательно имеет начало (например, жеребьевку) и завершение: наказание проигравших и чествование победителя. При этом жребий может представлять из себя как игру в собственном смысле слова (например, кости), так и ритуал (например, игровые роли распределяются по старшинству). Наказание и чествование тоже, как правило, восходят к ритуалу. Иначе говоря, процедуры входа в культурную игру и выхода из нее ритуализированы.
В празднике пространственно-временные границы игры и ритуала неразделимы. Они начинаются с выдвижения правил (свойство как игры, так и ритуала) участия в празднике и заканчиваются с окончанием мифа, развязкой праздника, достижением главной цели игры (ведь миф «разыгрывается»).
2. Цель, как отмечает Й. Хёйзинга, любая культурная игра невозможны без агона, соревнования. Соревнование, в свою очередь, немыслимо без получения выигрыша, т. е. преимущества, превосходства над противником, пользы, выгоды. Однако получение преимущества невозможно без подключения фактора количественной или качественной оценки: больше, меньше, дальше. У любого соревнования всегда (или почти всегда) есть цель: например, перегнать или одолеть кого-либо. В своей целеустремленности соревнование ближе к ритуалу, который всегда направлен на достижение какого-либо результата, какой-либо ощутимой пользы (например, совершается для излечения болезни или для вызова дождя). Исходя из того, что игра в празднике существует не просто как средство развлечения, а как способ разыгрывания мифа, она не может быть бесцельна. В этом случае она максимально приближена к ритуалу. С помощью нее, живущей в ритуальной форме (священная игра) праздничный миф приходит к своему логическому завершению, доставляя его участникам огромное эмоциональное удовольствие.
3. Эмоциональное напряжение и удовольствие. Напряжение - свидетельство неуверенности, но и наличие шанса достижения цели. Причем элемент напряжения занимает немаловажное значение. Напряжение подвергает силы участника испытанию физических сил (упорства, изобретательности, мужества, выносливости), вместе с тем и духовных сил, поскольку участник, стремящийся добиться результата, вынужден держаться в предписываемых правилах.
В игровых отношениях значимым является эмоциональная наполняемость: если игра, соперничество, то по её условиям игроки должны испытывать злость, ненависть друг к другу, если это игра-зрелище налицо факт сопереживания и т. д. Иными словами, игровые отношения не могут быть эмоционально нейтральными, в отличие, скажем, от правовых, производственных (в узком смысле слова) и т. д., вступая в игру, человек не остается безучастным, безразличным. Где есть бесстрастность, там нет игры. Не является сущностно игровым устойчиво приписываемый ей признак - удовольствие, т. к. трудно игнорировать общий эмоциональный подъем и удовлетворение, испытываемое участниками любого ритуала.
Игровое удовольствие - не только удовольствие в игре, но и удовольствие от игры, удовольствие от особенного смешения реальности и нереальности. Игровому вершению присуща особая настроенность, настроение окрыленного удовольствия, которое больше простой радости от свершения, сопровождающего спонтанные поступки, радость, в которой мы наслаждаемся своей свободой, своим деятельным бытием.
Максимальное чувство такого удовольствия достигается в пространстве праздника. Начинается оно с предвкушения праздника, когда все «нотки» человеческого организма начинают «наигрывать мелодию» ожидания праздника. Заранее продумывая степень и характер своего участия в празднике, человек уже испытывается удовольствие от того, как это может получиться.
Удовольствие является отчасти источником счастья. О том, что счастье достижимо посредством игры, пишет Е. Финк: «Игра -это импульсивное, спонтанно протекающее вершение, окрыленное действование, подобное движению человеческого бытия в себе самом. Но игровая подвижность не совпадает с обычной формой движения человеческой жизни. Рассматривая обычное действование, во всем сделанном мы обнаруживаем указание на конечную цель человека, на счастье, эвдаймонию. Жизнь принимается в качестве урока, обязательного задания, проекта: у нас нет места для отдыха, мы воспринимаем себя «в пути» и обречены вечно быть изгнанными из всякого настоящего, увлекаемыми вперед силой внутреннего жизненного проекта, нацеленного на эвдаймонию. Мы все неустанно стремимся к счастью, но не едины во мнении, в чем оно заключается. В напряжении нас держит не только беспокойный порыв к счастью, но и неопределенность в толковании «истинного счастья». Мы пытаемся заработать, завоевать, за-любить себе счастье и полноту жизни, но нас постоянно влечет за пределы достигнутого, всякое доброе настоящее мы жертвуем неведомому «лучшему» будущему. Хотя игра как играние есть импульсивно подвижное бытие, она находится в стороне от всякого беспокойного стремления, проистекающего из характера человеческого бытия как «задачи»: у нее нет никакой цели, ее цель и смысл - в ней самой. Игра - не ради будущего блаженства, она уже сама по себе есть «счастье»4.
Игра, «живущая» в рамках праздника, заданная правилами праздничного пространства, способна вызвать у человека чувство «счастья», ради которого он проживает жизнь.
4. Правила являются структурно организующим звеном священнодействия (ритуала) и игры. Правила для участников бесспорны и обязательны, они не подлежат никакому сомнению. Игра «живет» по «... добровольно принятым, но абсолютно обязательным пра-вилам.»5 Стоит только отойти от правил, и мир игры или ритуала тотчас же рушится.
То, что ограничивает произвол в действиях играющего человека, - не природа, не ее сопротивление человеческому вторжению, не враждебность ближних, как в сфере господства, - игра сама полагает себе пределы и границы, она покоряется правилу, которое сама же и ставит. Играющие связаны игровым правилом, будь то соревнование, карточная игра или игра детей. Можно отменить «правила», договориться о новых. Но пока человек играет и осмысленно понимает процесс игры, он остается связанным правилами. Первым делом играющие договариваются о правилах -пусть это даже будет условная импровизация. Конечно, не все время изобретаются «новые» игры - готовые игры с твердыми, известными правилами существуют в любой социальной ситуации. Но есть и творческое изобретение новых игр, возникающих из спонтанной деятельности фантазии и затем «фиксируемых» во взаимной договоренности.
Различие же правил игры и ритуала заключается в том, что в ритуале они более устойчивы, практически не подлежат обсуждению и изменению. Игра может себе позволить вносить какие-либо изменения или полностью придумывать новые.
В празднике правила, свободно заданные человеком, становятся обязательными для всех его участников, действуют на протяжении всего времени празднования, ограничивают поведение в ритуально-игровом дей-ствовании, при этом давая некоторую свободу выбора действий, и могут быть изменены только после окончания или перед началом нового празднования.
5. Одежда и атрибуты. Для того чтобы усилить принадлежность к игре, используются ритуалы и церемонии, тайные знаки, маскировка, эстетическое оформление в виде особого костюма, символика.
Инобытие и тайна игры и ритуала вместе зримо выражаются в переодевании. «Необычность» действия достигает здесь своей высшей точки. Переодевшийся или надевший маску «играет» иное существо. Но он и «есть» это иное существо («Игра возникает там, где человек в конкретном и зримом действии из Я создает НЕ-Я, где эти две образующие синхронизированы и сплетены в одну, двуединую структуру»). Способность к перевоплощению в равной степени присуща и исполнителям ритуала (обряда), и участникам игры»6.
Атрибут выполняет не менее важную функцию. Он «играет» свою роль, у него есть своя «цель», «смысл существования» в рамках установленных правил. Эти же правила и обуславливают его «жизнь», именно они являются источником «существования» атрибута в игровом или ритуальном действии. Наделяя атрибуты магическим смыслом, люди включают их, словно незаменимых персонажей, в священнодействие (священную игру).
Без «перевоплощения» участников невозможно «разыгрывание» праздничного мифа. Перевоплощаясь, они создают мифические образы (НЕ-Я), которым суждено «прожить» свою собственную праздничную жизнь.
6. Участники. Сообщество, принимающее участие в ритуальном или игровом действии, остается неизменным. Нельзя войти в число участников в сам момент действия. Это можно сделать только перед началом новой игры или нового священнодействия.
Как правило, участники праздника несколько раз проходят процедуру «входа» в сообщество. Первый раз, когда «входят» в пространство праздника, далее исходя из собственной приверженности к тому или иному праздничному мифу, части мифа. Встречаясь в ритуально-игровом пространстве праздника участники: принимают на себя определенные персональные функции; добровольно подчиняются заданным правилам; в выборе мифа, руководствуются истинным интересом; осознают ограниченность и условность действа; ощущают единство сообщества.
Рассмотренные структурные компоненты, присущи и ритуалу, и игре. Безусловно, помимо приведенных выше, каждое из этих понятий имеет и свои, только ему присущие. «Трудно представить такое состояние культуры, при котором игровые коллизии находили бы свое выражение исключительно в ритуале»'.
Соединяясь, игра и ритуал создают для участников особое пространство - пространство праздника. Попадая в него, знакомясь с правилами (условиями празднования), участник определяет свою роль (добровольно принимает предложенные правила) в раскрытии праздничного события (становится частью мифической истории праздника), что позволяет ему «выскочить» из обыденности и получить максимальное чувство удовлетворения, радости, счастья. Игра есть инструмент «играния» праздника, ритуал - структура (правила, церемонии «входа» и «выхода» и т. д.).
Примечания
1 Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре : структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов СПб., 1993. С.21-22.
2 Хёйзинга, Й. Homo ludens : в тени завтрашнего дня : пер. с нидерл. / общ. ред. и послесл. Г. М. Тавризян. М. : Прогресс ; Прогресс-Академия, 1992. С. 25-26.
3Хёйзинга, Й. Homo Ludens / Человек играющий : статьи по истории культуры / пер. с нидерл. и сост. Д. В. Сильвестрова. 2-е изд., испр. М. : Айрис-пресс, 2003. С. 15-16.
4 Финк, Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблемы человека в западной философии. М., 1988. С. 364.
5 Хёйзинга, Й. Homo ludens. С. 41.
6 Морозов, И. А. Круг игры : праздник и игра в жизни северорусского крестьянина (Х1Х-ХХ вв.) / И. А. Морозов, И. С. Слепцова. М. : Индрик, 2004. С. 37-38.
7 Байбурин, А. К. Указ. соч. С. 21.





 CC BY
CC BY 197
197