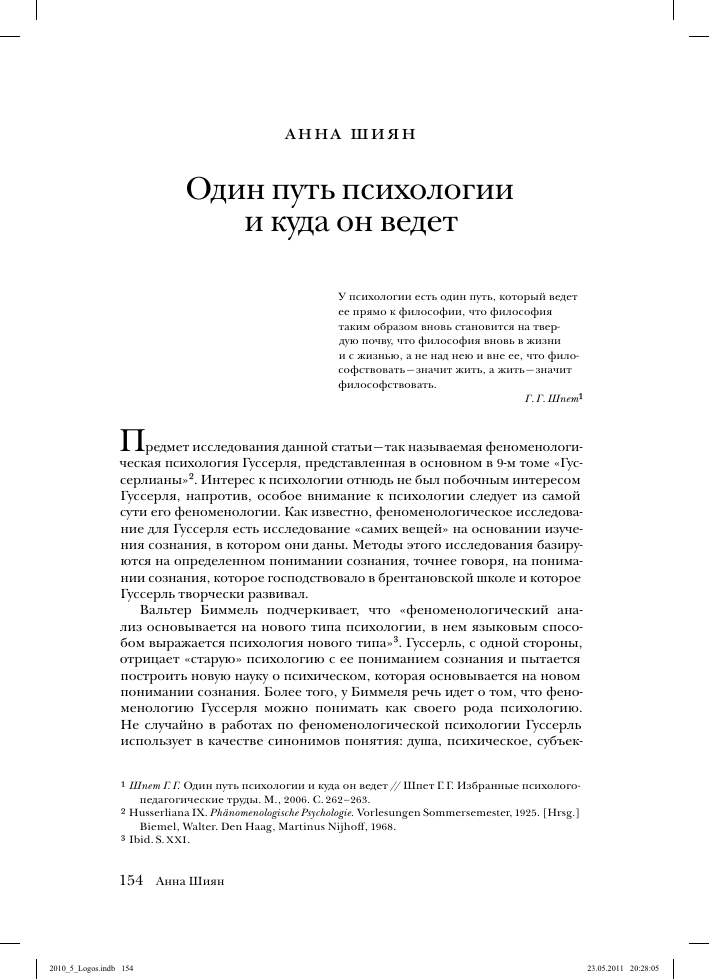АННА ШИЯН
Один путь психологии и куда он ведет
У психологии есть один путь, который ведет ее прямо к философии, что философия таким образом вновь становится на твердую почву, что философия вновь в жизни и с жизнью, а не над нею и вне ее, что философствовать — значит жить, а жить — значит философствовать.
Г. Г. ШпетУ
А Аредмет исследования данной статьи—так называемая феноменологическая психология Гуссерля, представленная в основном в 9-м томе «Гус-серлианы»2. Интерес к психологии отнюдь не был побочным интересом Гуссерля, напротив, особое внимание к психологии следует из самой сути его феноменологии. Как известно, феноменологическое исследование для Гуссерля есть исследование «самих вещей» на основании изучения сознания, в котором они даны. Методы этого исследования базируются на определенном понимании сознания, точнее говоря, на понимании сознания, которое господствовало в брентановской школе и которое Гуссерль творчески развивал.
Вальтер Биммель подчеркивает, что «феноменологический анализ основывается на нового типа психологии, в нем языковым способом выражается психология нового типа»3. Гуссерль, с одной стороны, отрицает «старую» психологию с ее пониманием сознания и пытается построить новую науку о психическом, которая основывается на новом понимании сознания. Более того, у Биммеля речь идет о том, что феноменологию Гуссерля можно понимать как своего рода психологию. Не случайно в работах по феноменологической психологии Гуссерль использует в качестве синонимов понятия: душа, психическое, субъек-
1 Шпет Г Г. Один путь психологии и куда он ведет / Шпет Г. Г. Избранные психолого-
педагогические труды. М., 2006. С. 262-263.
2 Husserliana IX. Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester, 1925. [Hrsg.]
Biemel, Walter. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1968.
3 Ibid. S. XXI.
154 Анна Шиян
тивность, сознание. Да и в первом издании «Логических исследований» используются в отношении сознания выражения: «дескриптивно-психологический», «психический акт» и т. д. Как известно, ко времени выхода 2-го тома «Логических исследований» Гуссерль полностью отказывается от определения своих исследований как психологических. Однако в позднем творчестве Гуссерля тема феноменологической психологии всплывает вновь. Почему это произошло и какие перспективы для феноменологии открывает феноменологическая психология? Нашей дальнейшей задачей является не пересказ мыслей Гуссерля по этому поводу (хорошо известных и ставших уже общим местом в истории феноменологии), а попытка в самих текстах философа найти ответ на этот вопрос, который, возможно, был бы неожиданным для него самого.
Прежде чем приступить к решению этой задачи, представим общей проект гуссерлевской феноменологической психологии. У Гуссерля, к сожалению, нет полного и систематического изложения проекта феноменологической психологии, в нашем распоряжении только отдельные статьи, лекции, заметки. Для целостного представления вопроса я буду опираться на работу Херрмана Дрюе «Система феноменологической психологии Эдмунда Гуссерля»4, где представлена попытка систематизировать все гуссерлевские наработки по этой теме.
Дрюе различает следующие пять ступеней новой, задуманной Гуссерлем психологии:) конкретная, или психофизическая, психология;
1. чистая, или фактическая, психология;
2. эйдетическая, или априорная, психология;
3. трансцендентальная психология;
4. трансцендентальная философия.
Первая ступень—психофизическая психология—исследует психическую жизнь как переплетенную с телесными переживаниями и подчиненную телу. Этой проблематике отводится не много места в работах Гуссерля по феноменологической психологии, и ее проблемы мы затрагивать не будем.
Предметом второй ступени—чистой, или фактической, психологии — являются переживания, которые отделяются от всех телесных компонентов. Дрюе полагает, что феноменологическая психология на этом этапе должна исследовать эмоциональные переживания, такие как радость, печаль и т. д.5 Как известно, Гуссерль, в отличие, например, от Шелера, не уделял таким исследованиям особого внимания. В лекциях « Феноменологическая психология» Гуссерль рассматривает интенциональные структуры переживаний в широком смысле, уделяя особое внимание процессам вос-
4 DrüeH. Edmund Husserls System der phänomenologischen Psychologie. Berlin, Walter
de Gruyter, 1963.
5 Ibid. S. 57.
Логос 5 (78) 2010 155
приятия, памяти и т. д. Здесь возникает вопрос: чем отличается исследование переживаний собственно в феноменологии от исследования переживаний в текстах, которые Гуссерль отнес к феноменологической психологии? Существует ли вообще это отличие?
Третья ступень представляет эйдетическую, или априорную, психологию. Здесь исследуются чистые сущности, которые образуют основу для всеобщей науки о душевной жизни. Именно на результатах этой ступени базируются исследования конкретных переживаний. В «Амстердамских докладах» Гуссерль указывает, что в эйдетической психологии априори психического всесторонне исследуется со всех аспектах, имеющих отношение к ноэзису и ноэме6. В статье для энциклопедии Британика Гуссерль подчеркивает, что эйдетическая психология рассматривает необходимые структуры синтезов восприятия, воспоминания, фантазии и т. п., а также формы активности и пассивности, в которых они протекают. Речь идет об исследованиях в сфере сознания, которыми Гуссерль занимался на протяжении всего своего творчества: в «Идеях I», в «Логических исследованиях», в различных курсах лекций и т. д. Однако Дрюе, поясняя ступень эйдетической психологии, приводит пример шизофрении из области традиционной психологии. Дрюе замечает, что как болезнь конкретного человека шизофрения относится к ступени психофизической психологии. В эйдетической же психологии должны определяться сущностные особенности и фундаментальные структуры шизофрении.
Важно заметить, что феноменологическая психология 1-3-й ступеней, в отличие от феноменологической психологии 4-й и 5-й ступеней, изучает психическое, которое является частью мира естественной установки, то есть, по выражению Дрюе, она действует в области мирской (mundanen) науки.
Четвертую ступень Дрюе характеризует как трансцендентальную психологию. Она рассматривает возможность и критику конституирования психического. Дрюе подчеркивает, что трансцендентальная психология рассматривает психическое, свободное от всяких мирских примесей. Нам не удалось разыскать ни одного прямого упоминания о трансцендентальной психологии у самого Гуссерля, однако у него есть строки, которые при желании можно истолковать как указание на нее. В «Амстердамских докладах» он пишет: «Если у нас теоретически руководящим интересом вместо мирового станет трансцендентальный интерес, то тогда общая психология получит печать трансцендентальной проблематики»7. Насколько оправдано эту проблематику отнести к сфере трансцендентальной психологии? На этот вопрос мы попытаемся ответить ниже.
6 Ibid.S.325.
7 Husserliana IX. Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester, 1925. [Hrsg.]
Biemel, Walter. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1968. S. 336 (пер. А. В. Денежкина, ред. В. И. Молчанова, Г. Г. Амелина).
156 Анна Шиян
Последней ступенью феноменологической психологии является трансцендентальная философия. Она занимается возможностью и критикой конституирования вообще. Трансцендентальная философия как всеобщая наука возможна только после осуществления трансцендентально-феноменологической редукции.
Вышеизложенное делает возможным как минимум два подхода к изучению феноменологической психологии. Во-первых, можно изучать и развивать феноменологическую психологию как науку о психическом в привычном смысле, как науку о психических состояниях, эмоциональных переживаниях и т. д. Во-вторых, феноменологическую психологию можно рассматривать как особый способ тематизации феноменологии вообще. Ниже мы попытаемся ответить на вопросы: какую сторону феноменологии подчеркивает феноменологическая психология? чем отличается исследование сознания в работах по феноменологической психологии от исследования сознания в работах, в которых это понятие не используется?
Описание переживаний в феноменологической психологии
Далее я попытаюсь показать, что нового вносит в феноменологический анализ рассмотрение переживаний в рамках феноменологической психологии.
В этой связи Гуссерль обозначает свою задачу как исследование структур и синтезов субъективности. В ходе этого конкретного анализа переживаний сознания Гуссерль переходит на третью ступень феноменологической психологии, поскольку результаты этого исследования имеют значение не только для отдельного Я, но и для любого сознания. «Речь идет при этом не о случайном субъективном событии, но о субъективном, которое должно быть обнаружено повсеместно и необходимо», — пишет Гуссерль8.
Методы исследования психических переживаний
Сначала обратимся к методам исследования, задействуемых в «Лекциях по феноменологической психологии». Речь идет прежде всего о редукции и рефлексии. Эти методы являются основными методами феноменологии Гуссерля. Финк относит понятие редукции к оперативным понятиям феноменологии, то есть к тем понятиям, смысл которых еще окончательно не установлен и которые используются для объяснения других, тематических, понятий9.
8 Ibid. S. 157.
9 См.: Финк О. Оперативные понятия феноменологии Гуссерля /Пер. А. Шиян; под ред.
В. Молчанова/Ежегодник по феноменологической философии, 2008 [I]. С. 361 - 380.
Логос 5 (78) 2010 157
Методологические разъяснения, которые Гуссерль дает в лекциях «Феноменологическая психология», в основном касаются рассмотрении рефлексии. И только после анализа рефлексии Гуссерль замечает, что редукция также играет важную роль, так как она открывает путь к трансцендентальной субъективности10.
Конечно, редукция и рефлексия в феноменологии подразумевают друг друга, даже если при тематизиции одной другая остается в тени. Тот факт, что в лекциях «Феноменологическая психология» Гуссерль уделяет значительно больше внимания рефлексии, чем редукции, представляется нам очень важным, так как это позволяет описать феноменологический метод, не переходя к специфическому феноменологическому языку. Основания для этого лежат в том, что рефлексия не является открытием Гуссерля. Рефлексия как процедура — процесс известный, и это, возможно, вынуждает Гуссерля ввести понятие естественной рефлексии. Отличие между естественной и феноменологической рефлексией поможет нам понять своеобразие гуссерлевских текстов по феноменологической психологии.
Гуссерль полагает, что в естественной рефлексии в отличие от феноменологической присутствует вера в бытие предмета. Однако нам представляется, что само сочетание слов «естественная рефлексия» является противоречивым. Рефлексия — всегда «противоестественная» процедура, так как в любой рефлексии мы отстраняемся и отворачиваемся от привычного протекания вещей и событий и обращаем наше внимание на сам способ, каким нам даются события и вещи. Так, в естественной установке мы интересуемся предметами с определенной точки зрения: мы хотим их для чего-то использовать, мы их оцениваем и т. д. В теоретико-познавательной установке мы пытаемся познать предмет в его определенностях, в его «так-бытии». В рефлексии мы направляем внимание на способы данности предмета, на тот опыт сознания, в котором он дан: мы пытаемся описать процесс восприятия, воспоминания, фантазии и т. д. Мы больше не стремимся открыть новые стороны предметы, мы пытаемся разобраться в свойствах предмета и его модусах существования, которые уже даны через этот опыт сознания. «В восприятии уже все дано, только мы учитывали это, не замечая», — пишет Гуссерль-1! Можно согласиться (хотя и это небесспорно), что в естественной установке вера в бытие предметов играет для нас существенную роль. Но в ходе рефлексии наше внимание больше не направлено на сами окружающие предметы, и их существование или несуществование не играет для нас никакой роли. Мы прекращаем жить в привычном, мирском интересе. Точно так описывает Гуссерль прекращение веры в бытие в «Амстердамских докладах»: «Вместо того чтобы жить этой жизнью, имея мирские интересы, мы должны только рассматри-
10 Ibid. S. 191.
11 Husserliana IX. Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester, 1925. [Hrsg.]
Biemel, Walter. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1968. S. 153.
158 Анна Шиян
вать ее так, как она в себе самой есть сознание о том-то и том-то и как в ней самой проявляются эти интересы»12. Я хотела бы обратить внимание: прекращение веры в «так-бытие» здесь понимается как поворот интереса от «так-бытия» к способам данности предмета. Это характерно как для естественной, так и для феноменологической рефлексии.
Я считаю, что исходя из гуссерлевских текстов по феноменологической психологии можно определить феноменологическую рефлексию как частный случай естественной рефлексии. В чем специфика этого частного случая? Ответ на этот вопрос можно найти у самого Гуссерля. Гуссерль повторяет много раз, что для феноменологического исследования не имеет значения, существуют предметы или нет. Но в любом случае феноменолог должен определить доксический способ данности предмета (действительность, бытие в сомнении, в фантазии, возможность и т. д.). Именно через определение способов данности отличается, согласно Э. Штрекер, феноменологическая рефлексия от естественной-^. Ее мысль можно обобщить следующим образом: феноменологическая рефлексия есть рефлексия в отношении феноменологически понятого сознания, которая совершается с целями, соответствующими задачам феноменологии, — исследовать переживания сознания с коррелятивными им предметами или, другими словами, исследовать предметы как данности нашего сознания.
Сравнение описание восприятия в лекциях «Вещь и пространство» и «Феноменологическая психология»
Восприятие Гуссерль рассматривал как основной модус сознания. Он занимается проблематикой восприятия на протяжении всего своего творчество. Ниже мы сравним описание восприятия вещи в лекциях «Вещь и пространство» (1907) и в лекциях «Феноменологическая психология». Можно заметить, что в лекциях «Вещь и пространство» переплетаются два подхода к анализу восприятия вещи. Первый представляет собой описание реального опыта сознания, в котором нам вещь дана. В рамках этого подхода рассматриваются свойства и модусы данности воспринимаемой вещи: собственные и несобственные явления предмета, полная и пустая интенция, наличие моментов понимания и внимание в восприятии и т. д. Второй подход к восприятию вещи можно охарактеризовать как построение определенной модели восприятия. В соответствии с этой моделью в восприятии Гуссерль различает ощущения и оживляющий их акт схватывания. Он называет ощущения действительным моментом сознания и противопоставляет их свойствам предмета восприятия: «...переживаемый цвет и окраска предмета, переживаемое содержание звука и пред-
12 Гуссерль Э. Амстердамские доклады / Пер. с нем. А. В. Денежкина; ред. В. И. Молча-
нова, Г. Г. Амелина/Логос, 1992. № 3. С. 70.
13 StrökerE. Husserls transzendentale Phänomenologie. Fr. a. M., 1987. S. 73.
Логос 5 (78) 2010 159
метный звук, ощущение шероховатости и шероховатость вещи и т. д.»-14. В ходе воздействия актов схватывания на «комплекс ощущений» формируется предмет восприятия.
Мы полагаем, что схема «ощущения — схватывание» функционирует как модель, которую Гуссерль использует для объяснения восприятия. Конечно, мы можем абстрактно различить между чистыми ощущениями и свойствами предмета, но в нашем реальном опыте не существует чистых ощущений без соответствующих им предметностей, и, соответственно, мы не можем найти в реальном опыте оживляющий акт схватывания. Именно из этих оснований критикует Гуссерля чешский философ Паточка. Паточка рассматривает гуссерлевский пример с восприятием красной коробки и замечает: «А увиденную красноту коробки следует ли в самом деле разлагать двояко, а именно как впечатление красного и как предметную апперцепцию в смысле окраски поверхности коробки? Или красный цвет один раз является посредником предмета, отсылающим к себе самому, а другой раз — предметом, который выскакивает как самостоятельный? И где при этом можно отыскать нечто от „оживления" структуры чувственных данных?»-15.
В лекциях «Феноменологическая психология» Гуссерль при описании процесса восприятия пытается избежать конструкций, которые невозможно обнаружить в реальном опыте сознания. Можно предположить, что именно акцент на рефлексивном моменте феноменологического метода способствует уклонению от объясняющей модели. В этом случае мы не может полностью отстраниться от вещей окружающего мира, мы именно с них и начинаем наше исследование. Вещь окружающего мира и предмет восприятия изначально одно и то же, но они взяты в различных установках. Вещь окружающего мира принадлежит естественной установке, предмет восприятия существует в феноменологической установке. В начале феноменологического исследования они совпадают, затем мы конкретизируем предмет восприятия. Эту мысль Гуссерль выражает следующим образом: мы воспринимаем различными способами «один раз сам объект в том случае, если мы просто объективно воспринимаем, например, этот стол здесь, с другой стороны, субъективный модус, в котором этот объект дан относительно как объект с определенной стороны, как ориентированный в определенном пространстве с такими-то и такими-то оттенками»16.
Однако в лекциях «Феноменологическая психология» Гуссерль проводит различие не между окраской предмета и переживаемым цветом, а между окраской предмета и перспективой цвета, которые обнаруживаются
14 Ibid. S. 19.
15 Patocka J. Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer «asubjektiven»
Phänomenologie. In: Patocka J. Die Bewegung der menschlichen Existenz. Stuttgart,
Klett — Cotta, 1991. S. 277. 1® Husserliana IX. Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester, 1925. [Hrsg.]
Biemel, Walter. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1968. S. 168.
160 Анна Шиян
в феноменологической установке. Перспективы не есть абстрактно переживаемый цвет, но окраска конкретного предмета, которая рассматривается как коррелят субъективности нашего сознания, которую мы наблюдаем в феноменологической установке. Гуссерль подчеркивает, что представление перспектив имеет параллельные структуры: объективный образ соответствует перспективе образа, объективный цвет—перспективе цвета и т. д.17 Гуссерль замечает, что различение перспектив неотделимо от субъективных различий ориентации и способов данности сторон предмета. Так, мы можем телесно двигаться в пространстве или спокойно стоять, вещь также может находиться в движении и т. д. Кроме того, мы можем обращать внимание на правую или левую сторону вещи, на переднюю или заднюю часть и т. д. Итак, Гуссерль утверждает, что вещь показывает себя с различных перспектив и эти перспективы могут меняться.
Гуссерль пытается наметить ответ на вопрос, как образуются перспективы в сознании; для этого он вводит понятие данных ощущения, или гиле. Гуссерль толкует гиле как материю для сознательной функции и утверждает, что перспективы и явление предмета образуются из гиле с помощью синтетической работы сознания. Однако этот процесс находится вне нашего актуального опыта. Возможно, поэтому Гуссерль его и не тематизирует в лекциях «Феноменологическая психология». В текстах по феноменологической психологии Гуссерль не занимается построением объяснительной модели сознания. В этих текстах Гуссерль пытается не отклоняться от описания реального опыта сознания, а, наоборот, согласовать с ним все результаты рефлексии.
Дрюе также подчеркивает этот момент гуссерлевской феноменологической психологии: «Практически после осуществления редукции осуществляется возврат в естественную установку так, что время от времени снова полагается никогда не прерываемая, в том числе и для феноменолога, непрерывность протекания мира. Познание, полученное в результате редукции, сплетается с результатами естественной установки в новый образ мира»1®. По сути дела здесь подчеркивается промежуточный статус феноменологического исследования, который означает, что после феноменологической редукции не осуществляется полное погружение феноменолога в чистое сознание, в ходе которого полностью забывается внешний мир.
Область трансцендентальных исследований и феноменологическая психология
Рассмотрим четвертую ступень гуссерлевского проекта феноменологической психологии—трансцендентальную психологию. Как мы уже отме-
17 Ibid. V gl. S. 160-161.
18 DrüeH. Edmund Husserls System der phänomenologischen Psychologie. Berlin, Walter
de Gruyter, 1963. S. 218 -219.
Логос 5 (78) 2010 161
чали, исследование психического в трансцендентальной психологии, по Дрюе, исключает мирской (ти^апеп) интерес, то есть не принимает во внимание предметы окружающего и занимается «возможностью и критикой конституции психики»19. Но такая же задача стоит перед трансцендентальной феноменологией, в сферу действия которой мы попадаем после осуществления трансцендентальной редукции и эпохе. Можно ли из этого сделать вывод, что трансцендентальная феноменология, например, как она представлена в «Идеях I», приравнивается к трансцендентальной психологии?
К сожалению, сам Гуссерль не дает ответа на этот вопрос. Однако Ойген Финк в своей знаменитой статье «Феноменология Эдмунда Гуссерля в свете настоящей критики» пытается провести границу между трансцендентальной психологией и трансцендентальной феноменологией. Это происходит в ходе обсуждения гуссерлевского понятия ноэмы в «Идеях I». Это понятие и сегодня приковывает к себе внимание многих исследователей20. В рамках этой работы нет возможности рассмотреть все интерпретации гуссерлевского понятия ноэмы, мы остановимся только на двух возможных пониманиях ноэмы, которые Финк обнаруживает у Гуссерля и которые непосредственно примыкают к нашей теме.
Финк различает психологическую и феноменологическую трансцендентальную ноэму с точки зрения ее отношения к предмету. Психологически понятая ноэма относится к вещи, которая сознанию трансцен-дентна. Она не является имманентным отражением существующей вне сознания вещи, ее можно определить как смысл предмета или как данность предмета в опыте сознания, который рассматривается как процесс наполняющей идентификации, в ходе которого сущий предмет становится нам доступным. Психологическая ноэма указывает на независимый предмет, который сам себя через нее обнаруживает. Трансцендентальная ноэма есть само сущее. Здесь ноэма приобретает смысл «коррелята изолированных трансцендентальных актов, которые в синтетической взаимосвязи постоянного осуществления образуют единства предмета толь-
21
ко как ее идеального полюса»2\
Можно заметить, что финковское разъяснение трансцендентальной ноэмы противоречит утверждению Дрюе, согласно которому существует трансцендентальная психология, покидающая мир естественной установки и исследующая изначальные процессы сознания, не принимая во внимания предметы окружающего мира. Итак, Финк, в отличие от Дрюе, строго разводит психологическое и трансцендентальное у Гуссерля, не оставляет место гибриду в виде «трансцендентальной психологии».
!9 Ibid. S. 61.
20 Cp.: BernetR. Husserls Begriff des Noema. In: [Hrsg.] Ijesseling, S.: Husserl-Ausgabe und
Husserl-Forschung. Dorndrecht, Kluwer Academic Publishers, 1990. S. 55-69. 2! Ibid. S. 365.
162 Анна Шиян
Рассмотрим сферу трансцендентальной феноменологии и попытаемся понять, как именно она может обосновать гуссерлевскую психологию. Но сначала пристальнее всмотримся в процедуры редукции и эпохе, только с помощью которых мы и можем проникнуть в область трансцендентальной субъективности, тематизированной в «Идеях I». Необходимо подчеркнуть, что если редукция может носить локальный характер, как это имеет место в лекциях «Феноменологическая психология», то эпохе должно распространяться на весь наш опыт. Это дает право присоседиться к высказыванию Э. Штрёкер, что эпохе есть не что иное, как «привычка постоянно осуществляемой и длящейся феноменологической редукции»22.
В «Идеях I» эпохе представлено как абстрактная и предельно общая процедура во многом потому, что Гуссерль настаивает на применение эпохе ко всему миру, но в реальном опыте мы не имеем дело с целым миром и само понятие мир является непроясненным и неопределенным. Вероятно, сам Гуссерль осознавал эту неопределенность, и позже, в «Первой философии», он пытается прояснить процедуры осуществление редукции и эпохе. Гуссерль обращает внимание на то, что наш настоящий опыт тесно связан с прошлым и будущим опытом и неизбежно отсылает к «непосредственному или близлежащему окружению»^. После разворачивания всего горизонта опыта редукция должна быть применима к каждому его временному и пространственному отрезку. Таким образом, Гуссерль пытается показать, каким образом редукция может распространяться на весь горизонт нашего опыта. Но мы полагаем, что даже весь горизонт нашего опыта не может охватить целый мир, так как всегда остается нечто, трансцендентное опыту. Так, Тенгели замечает, что сама мысль о горизонте опыта несет в себе независимость мира и вещи от сознания^.
Итак, «Первая философиия» помогает понять, как осуществляется редукция, но не дает ответа на вопрос об обосновании психологии в трансцендентальной феноменологии. Чтобы этот вопрос рассмотреть, необходимо осветить одно из важнейших свойств редукции и эпохе. Речь идет о том, что осуществление редукции и эпохе означает освобождение нашего сознания от всех научных и повседневных предпосылок. Но чтобы от этих предпосылок освободиться, нужно их выявить и назвать. Поскольку от всех предпосылок освободиться невозможно, то одной из важнейших целей редукции является установление предпосылок, которые неизбежно будут присутствовать в нашем сознании. В отношении эпохе это означает установление всеобщих предпосылок, которые должны быть необходимо значимы для всех других наук. К этим предпосылкам можно отнести трансцендентально-чистое сознание и его струк-
22 StrökerE. Husserls transzendentale Phänomenologie. Fr. a. M., 1987. S. 70.
23 Husserliana VIII. Erste Philosophie (1923/1924). Zweiter Teil: Theorie der
phänomenologischen Reduktion. [Hrsg.] Boehm, Rudolf. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1959. S. 147 - 148.
24 TengelyiL. Erfahrung und Ausdruck, Springer, 2007. S. 96.
Логос 5 (78) 2010 163
туры, которые относятся к безусловным основаниям сознания. Для феноменологической психологии это означает, что все ее исследования должны основываться на понимании сознания как потока интенциональных переживаний с Я-центром.
Эти безусловные основания устанавливаются Гуссерлем, как Пер-вофеноменологом. Именно перед Первофеноменологом стояла задача нахождения явного и достоверного обоснования идеи философии как строгой науки. Именно стремление решить эту задачу является разрешением мотивационной апории, стоящей перед Первофеноменологом: существование чистого сознания является предпосылкой, которую еще надо обосновать. Об этом пишет Алексей Григорьевич Черняков в статье «Феноменология как строгая наука? Парадоксы „последнего обоснования"», посвященной проблематике «Идей I». В этой статье он также впервые в русскоязычной литературе вводит фигуру Первофеноменоло-га25. Я попытаюсь развить дальше мысль А. Г. Чернякова о том, что для последующих феноменологов проблема мотива может уже и не играть решающей роли^. Я полагаю, что причина этого в том, что мотиваци-онная апория уже разрешена и безусловные достоверные основания и предпосылки строгой науки найдены. Это трансцендентальное сознание и его структуры, относящиеся к царству общезначимых истин.
Это не означает, что в конкретных феноменологических исследованиях необходимо отказаться от редукции. Редукция—необходимый момент феноменологической работы, так как только после ее осуществления мы получаем возможность анализировать опыт сознания изнутри самого этого опыта или, выражаясь языком «Идей I», мы можем исследовать конкретные ноэтико-ноэматические структуры во всех их определен-ностях. Но после осуществления редукции мы не открываем структуры чистого сознания вообще как таковые в их всеобщей и универсальной функции. Они, как всеобщие основания и предпосылки строгой науки, уже открыты и реактивированы Первофеноменологом. Наша задача— конкретные исследования, не претендующие на построения всеобщей абстрактной системы.
Создание системы трансцендентальной феноменологии есть дело только Первофеноменолога. Все другие науки и конкретные исследования в сфере феноменологии должны опираться на полученные им результаты. Тогда различие между феноменологической психологией и трансцендентальный феноменологией приобретает другой смысл. В то время как трансцендентальная феноменология была персональным проектом Гуссерля и завершилась с его смертью, все последующие феноменологические исследования предметов и проблем окружающего мира могут осуществляться в области феноменологической психологии как науки
25 Черняков А. Г. Феноменология как строгая наука? Парадоксы последнего обоснова-
ния / Историко-философский ежегодник 04. М., 2005. С. 389-392.
26 Там же. С. 390.
164 Анна Шиян
о реальном опыте сознания при постоянном взаимопроникновении естественной и феноменологической установок.
Здесь возникает вопрос в отношении конститутивной проблематики в генетической феноменологии, в пассивных синтезах и т. д. Именно здесь осуществляется так называемая «конститутивная работа», которая протекает в недрах трансцендентального сознания и не должна иметь ничего общего с миром естественной установки. Однако и в этом случае, как утверждает Финк в VI «Картезианской медитации», полного погружения в сферу трансцендентально-чистого сознания не происходит. «Мы понимаем. что тема феноменологизации, как она открывается посредством редукции, не регион или новое бытийное поле трансцендентальной субъективности, противостоящее миру, но как предмет феномено-логизации должен быть схвачен конститутивный процесс. Не члены корреляции здесь раньше. Не трансцендентальная субъективность здесь и мир там, и между ними разыгрываются конститутивные отношения, но становление конституирования есть становление действительности конституирующей субъективности в действительности мира»2?, — пишет Финк. По сути, здесь Финк пишет о невозможности осуществления чисто трансцендентального исследования, которое протекало бы только в недрах чистого сознания. Насколько Финк прав, может показать лишь будущее исследование текстов Гуссерля по генетической феноменологии.
27 Eugen, Fink: VI. Cartesianische Meditation. Teil I: Die Idee einer transzendentalen Methodenlehre, Husserliana: Edmund Husserl Dokumente 2/1. Herausgegeben von G. van Kerckhoven, H. Ebeling & J. Holl. Den Haag: Kluwer Academic Publishers, 1988, S. 49.
Логос 5 (78) 2010 165





 CC BY
CC BY 19
19