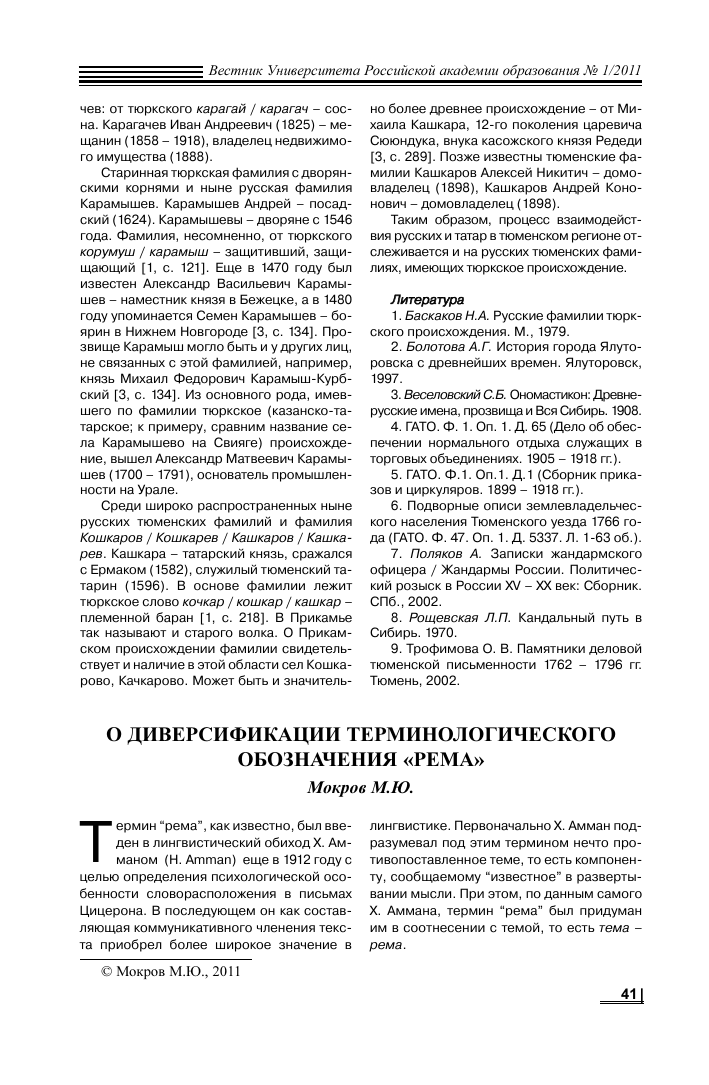чев: от тюркского карагай / карагач - сосна. Карагачев Иван Андреевич (1825) - мещанин (1858 - 1918), владелец недвижимого имущества (1888).
Старинная тюркская фамилия с дворянскими корнями и ныне русская фамилия Карамышев. Карамышев Андрей - посадский (1624). Карамышевы - дворяне с 1546 года. Фамилия, несомненно, от тюркского корумуш / карамыш - защитивший, защищающий [1, с. 121]. Еще в 1470 году был известен Александр Васильевич Карамышев - наместник князя в Бежецке, а в 1480 году упоминается Семен Карамышев - боярин в Нижнем Новгороде [3, с. 134]. Прозвище Карамыш могло быть и у других лиц, не связанных с этой фамилией, например, князь Михаил Федорович Карамыш-Курб-ский [3, с. 134]. Из основного рода, имевшего по фамилии тюркское (казанско-татарское; к примеру, сравним название села Карамышево на Свияге) происхождение, вышел Александр Матвеевич Карамышев (1700 - 1791), основатель промышленности на Урале.
Среди широко распространенных ныне русских тюменских фамилий и фамилия Кошкаров / Кошкарев / Кашкаров / Кашка-рев. Кашкара - татарский князь, сражался с Ермаком (1582), служилый тюменский татарин (1596). В основе фамилии лежит тюркское слово кочкар / кошкар / кашкар -племенной баран [1, с. 218]. В Прикамье так называют и старого волка. О Прикам-ском происхождении фамилии свидетельствует и наличие в этой области сел Кошка-рово, Качкарово. Может быть и значитель-
но более древнее происхождение - от Михаила Кашкара, 12-го поколения царевича Сююндука, внука касожского князя Редеди [3, с. 289]. Позже известны тюменские фамилии Кашкаров Алексей Никитич - домовладелец (1898), Кашкаров Андрей Коно-нович - домовладелец (1898).
Таким образом, процесс взаимодействия русских и татар в тюменском регионе отслеживается и на русских тюменских фамилиях, имеющих тюркское происхождение.
Литература
1. Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979.
2. Болотова А.Г. История города Ялуторовска с древнейших времен. Ялуторовск, 1997.
3. Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и Вся Сибирь. 1908.
4. ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 65 (Дело об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых объединениях. 1905 - 1918 гг.).
5. ГАТО. Ф.1. Оп.1. Д.1 (Сборник приказов и циркуляров. 1899 - 1918 гг.).
6. Подворные описи землевладельческого населения Тюменского уезда 1766 года (ГАТО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 5337. Л. 1-63 об.).
7. Поляков А. Записки жандармского офицера / Жандармы России. Политический розыск в России XV - XX век: Сборник. СПб., 2002.
8. Рощевская Л.П. Кандальный путь в Сибирь. 1970.
9. Трофимова О. В. Памятники деловой тюменской письменности 1762 - 1796 гг. Тюмень, 2002.
О ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ «РЕМА»
Мокрое М.Ю.
Термин “рема”, как известно, был введен в лингвистический обиход X. Амманом (H. Amman) еще в 1912 году с целью определения психологической особенности словорасположения в письмах Цицерона. В последующем он как составляющая коммуникативного членения текста приобрел более широкое значение в
© Мокров М.Ю., 2011
лингвистике. Первоначально X. Амман подразумевал под этим термином нечто противопоставленное теме, то есть компоненту, сообщаемому “известное” в развертывании мысли. При этом, по данным самого X. Аммана, термин “рема” был придуман им в соотнесении с темой, то есть тема -рема.
Прошло уже почти сто лет, как лингвистический мир узнал об этом термине, но исследователи так и не определились до конца и в полной мере, каково же содержание данного термина, является ли он синонимом того, что сегодня называют “новым” (Кругилевницкая), “психологическим центром” (Пешковский), “логическим предикатом” (Росипов), “смысловым предикатом” (Ильиш), “предикатомой” (Чесноков), “пре-дикемой” (Ившин), “предикатором” (Синклер), “фокусом”, “топиком” (Хэллидей, Демьяненко) и другими.
Как видим, история развития коммуникативного членения предложила множество терминов для обозначения того компонента (ов) высказывания, в котором вербализуется новая информация.
В связи с обсуждением статуса “ремы” как термина возникают еще, по крайней мере, два принципиальных вопроса: всегда ли “рема” обозначает “новую” для читателя, слушателя, собеседника информацию, и каково содержание этого термина при характеристике информационной структуры монологической и диалогической форм речи.
Хорошо известно, что существующая сегодня теория актуального (коммуникативного, тема-рематического) членения, как правило, основывается на выводах и положениях исследований монологического письменного текста.
Этот редукционистский подход к исследованию закономерностей информационной структуры текста, то есть коммуникативного развертывания мысли, распределения компонентов известной и новой информации, приводит исследователей в большинстве случаев к выводу, что коммуникативный динамизм развертывается по схеме: Т1 - Я1 - Т2 - Я2 и так далее. Но, как показывают современные исследования и особенно из области диалогической речи (Михайлов, Сергеев, Белова и другие), такой подход развертывания мысли и распределения информации представляет собой лишь один из возможных вариантов коммуникативного членения текста как продукта речевой деятельности человека.
Возвращаясь к проблеме соотношения содержания терминов “новое” и “рема”, отметим, что сегодня коммуникативная лингвистика располагает доказательства-
ми, что нельзя ставить знак равенства между “ремой” и “новым”.
Работы В.Е. Шевяковой [4, с. 94], а также Н.И. Фомичевой (1983) и других авторов, показывают, что ремой могут являться и компоненты высказываний, упомянутые в предшествующем контексте. Германские языки расположенны специальными способами (синтаксическими и интонационными) для придания соответствующему компоненту статуса ремы [ср. примеры В. Шевяковой (Discussions flared anew) [4, с. 94] и Н. Фомичевой (Es war das Buch, das gefallen war)].
Подобный статус ремы возникает на основе своеобразного выделения компонента высказывания тем или иным способом. Второй не менее важной проблемой является статус ремы при исследовании информационной структуры диалогического текста.
Информационная структура диалогического текста, как продукта совместной речевой деятельности двух участников коммуникативного процесса, представляет пока еще собой “полуподнятую целину”.
Совершенно очевидно, что диалогический текст, создаваемый двумя коммуника-тивами на основе их взаимодействия и координации своих установок, а также содержащий множество высказываний с различными интенциями (повествовательных, вопросительных, эмоциональных, побудительных и так далее) должен иметь иные способы представления и распределения информации.
Ведь совершенно ясно, что вопрос, в отличие от повествовательного высказывания, и по своей интенции и по синтаксической организации в корне отличается от последнего, равно как эмоциональное высказывание от вопросительного. Этот и другие особенности диалогической речи требуют, соответственно, другого подхода к изучению ее информационной структуры.
Отметим, что впервые на особенности коммуникативного членения диалогического текста обратил внимание в своей кандидатской диссертации Л.М. Михайлов (1966), предложив несколько терминов для более адекватного осмысления информационной структуры диалога. Впоследствии положения, выдвинутые в 1966 г., были развиты в его работах (1986, 1994, 2003) и в исследованиях его учеников (Сергеев,1986; Серге-
ева, 1993; Ермакова, 1992; Белова, 2003) и других.
Главная идея, которая заложена в указанных работах, звучит так: рема в диалогическом тексте более разнообразна, чем в монологическом тексте, следовательно, она с необходимостью должна быть диверсифицирована. Это означает, что адекватное осмысление диалогического текста должно учитывать все разнообразие способов представления и вербализации ремы.
На наш взгляд, наиболее полно концепция диверсификации ремы изложена в “Коммуникативной грамматике немецкого языка” Л. Михайлова (1994).
Поскольку наше исследование информационной структуры английского неофициального диалога в принципиальном плане опирается на терминологическую систему профессора Л. Михайлова, считаем необходимым остановиться на важнейших терминологических обозначениях ремы, предложенных в его работах.
Для характеристики коммуникативной структуры вопросительного высказывания (местоименного, неместоименного) предложен термин “намеченная рема”. Задавая вопрос, коммуникация лишь намечает контуры будущей ремы, поскольку он не обладает информацией о коммуникативной сущности одного из аргументов-актантов вопросительного высказывания. В местоименных вопросах “намеченная рема” предстает морфологически в форме wh-знаков (who, when, why, where и так далее), а в неместоименных представлена практически любым значимым компонентом, выделенным ударением.
Номинация в реакции, коррегирующая с намеченной ремой, и является собственно ремой, удовлетворяющей интенции вопроса как функционального тона высказывания. Ср.:
1) - What did they get you?
- A stereo for my truck (Meyer, Moon).
Таким образом, вопросительное What
(намеченная рема) и реакция-словосочетание входят в отношение корреляции и соотносятся как: намеченная рема - рема.
2) - Wasn’t she miserable in their family?
- Miserable (Chapman, on Top).
В диалоге (2) неместоименный вопрос содержит намеченную рему - miserable, в реакции дана подтвержденная рема. Но в неместоименном вопросе коммуникант в
качестве намеченной ремы или признака предлагает лишь свой вариант. Мы видим в примере (2), что намеченная рема подтверждается, но во многих случаях признак либо отвергается, либо в качестве коммуникативного индикатора выступают псев-доремы yes, no. Ср.:
1) - Will you be paid?
- Underpaid (Aldington, Women).
2) - You’re Isabella Swan, aren’t you?
- Bella (Meyer, Twilight).
3) - Are you scared?
- No (Meyer, Twilight).
В диалогической коммуникации нередки случаи, когда реагирующий коммуникант, имплицитно принимая намеченную рему, формирует в целях ускорения коммуникативного процесса свою рему, которая получила в концепции Л. Михайлова наименование опережающая рема. Ср.:
1)- Do you want to do that part?
- Not tonight (Meyer, Eclipse).
2) - Haven’t you ever seen snow ball before?
- On TV (Meyer, Twilight).
Как видим, в обоих случаях собеседник вербализирует информацию, которая не запрашивалась, то есть не являлась собственно интенцией вопросительного высказывания.
Мы рассмотрели лишь часть терминологической системы, предложенной профессором Л. Михайловым и призванной адекватно отражать информационную структуру диалогического текста. Можно высказать предположение, что исследование, ориентирующееся на указанную систему терминов, позволит более детально и, самое главное, адекватно описать способы распределения и вербализации информации в диалогической коммуникации.
Литература
1. Amman H. Die Stellungstypen des latei-nischen attributiren Adjektivums und ihre Bedeu-tung fur die Psychologie der worstellung auf Yrund von Ciceros Briefen undersucht // Indo-germanische Forschungen.1911 - 1912. Bd. 29.
2. Михайлов Л.М. Коммуникативная грамматика немецкого языка. М., 1994.
3. Ившин В.Д. Синтаксис речи современного английского языка. Ростов-на-Дону, 2002.
4. Шевякова В.Е. Современный английский язык. Порядок слов, актуальное членение, интонация. М., 1980
ш
5. Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. М., 1998.
6. Крушельницкая К.Г. К вопросу о смысловом членении предложения. Вл., 1956.
7. Матезиус В.О. О так называемом актуальном членении предложения // Праж-
ский лингвистический кружок. М., 1967.
8. Сергеев А.И. Коммуникативная организация вопросно-ответных единств в современном немецком языке: Автореф. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 1986
К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ ПРОЗВИЩ1
Левина М.В.
Смена научной парадигмы на антропоцентрическую привела к тому,что взгляды ученых устремились в первую очередь на человека, и уже во вторую -на единицу науки. Являясь существом социальным, человек живет и функционирует в обществе, порожденном культурой, которая репрезентируется и фиксируется в языке. Интерес к изучению взаимосвязи и взаимодействия “культуры и языка в его функционировании” [2, с. 26] проявила лингвокультурология, активно развивающаяся в последнее время. В рамках данного аспекта осуществляется наше исследование индивидуальных школьных прозвищ, актуальность которого заключается в следующем. Индивидуальные прозвища несут в себе как языковые (речевые) особенности, так и культурные установки школьного социума, характеризующегося непрерывной изменчивостью лингвокультурной ситуации. Проблема прозвищ в отечественной ономастике не нова, к ней обращались такие ученые, как В.К. Чичагов, А.М. Селищев, В.А. Никонов, А.В. Су-перанская, З.П. Никулина и другие. В последнее десятилетие по данной теме изданы исследования диссертационного уровня: Ю.Б. Воронцовой (Екатеринбург, 2002), А.А. Пашкевич (Санкт-Петербург, 2007), Т.Т. Денисовой (Смоленск, 2007), В.В. Робустовой (Москва, 2009), Е.С. Шос-тки (Тамбов, 2009) и других. Изучались индивидуальные школьные прозвища, рассматривались различные аспекты, в том
числе структурно-семантический (Пашкевич, Шостка), социокультурологический (Денисова), когнитивный (Робустова) и другие В то же время с лингвокультурологических позиций индивидуальные школьные прозвища рассмотрены еще не достаточно полно.
Одной из задач нашей работы является интерпретация лингвокультурологического поля индивидуальных школьных прозвищ, в основу которой положен анализ семантических полей с учетом их культурологической составляющей.
Воспользовавшись идеографическим способом классификации прозвищ, мы выявили ряд групп: отфамильные, отыменные и оценочно-характеристические прозвища. Обратимся к последней и рассмотрим некоторые результаты анализа индивидуальных школьных прозвищ учащихся среднего звена (5 - 9 классы) г. Барнаула. Прозвищный материал дал нам возможность выделить следующие семантические поля: “Внешний вид”, “Имя персонажа мультфильма, художественного фильма, популярной телепрограммы”, “Поступки, действия, случай”, “Физические недостатки”, “Имя легендарного персонажа, известной личности”, “Особенности характера”, “Особенности речи”, “Сказанная фраза” -
и, следовательно, сделать вывод, что они не только лингвистически, но и культурологически отмечены.
А.М. Селищев писал: “Обозревая личные имена и прозвища, наблюдаем, что
1 Использованы результаты анализа школьных прозвищ учащихся 5 - 9 классов г Барнаула. © Левина М.В., 2011





 CC BY
CC BY 12
12