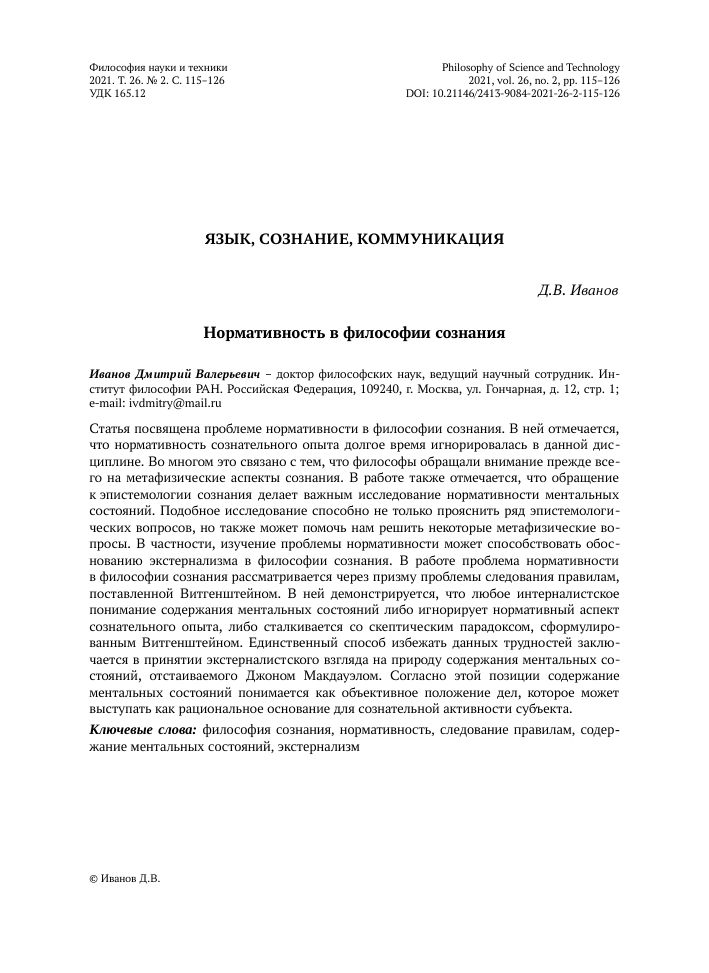Философия науки и техники 2021. Т. 26. № 2. С. 115-126 УДК 165.12
Philosophy of Science and Technology 2021, vol. 26, no. 2, pp. 115-126 DOI: 10.21146/2413-9084-2021-26-2-115-126
ЯЗЫК, СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ
Д.В. Иванов
Нормативность в философии сознания
Иванов Дмитрий Валерьевич - доктор философских наук, ведущий научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; e-mail: ivdmitry@mail.ru
Статья посвящена проблеме нормативности в философии сознания. В ней отмечается, что нормативность сознательного опыта долгое время игнорировалась в данной дисциплине. Во многом это связано с тем, что философы обращали внимание прежде всего на метафизические аспекты сознания. В работе также отмечается, что обращение к эпистемологии сознания делает важным исследование нормативности ментальных состояний. Подобное исследование способно не только прояснить ряд эпистемологических вопросов, но также может помочь нам решить некоторые метафизические вопросы. В частности, изучение проблемы нормативности может способствовать обоснованию экстернализма в философии сознания. В работе проблема нормативности в философии сознания рассматривается через призму проблемы следования правилам, поставленной Витгенштейном. В ней демонстрируется, что любое интерналистское понимание содержания ментальных состояний либо игнорирует нормативный аспект сознательного опыта, либо сталкивается со скептическим парадоксом, сформулированным Витгенштейном. Единственный способ избежать данных трудностей заключается в принятии экстерналистского взгляда на природу содержания ментальных состояний, отстаиваемого Джоном Макдауэлом. Согласно этой позиции содержание ментальных состояний понимается как объективное положение дел, которое может выступать как рациональное основание для сознательной активности субъекта.
Ключевые слова: философия сознания, нормативность, следование правилам, содержание ментальных состояний, экстернализм
© Иванов Д.В.
I
С темой нормативности в философии мы сталкиваемся прежде всего, когда обращаемся к таким дисциплинам, как этика и философия действия, логика и эпистемология. В отличие от метафизики и онтологии они нацелены не на то, чтобы снабдить нас дескрипциями относительно того, что и как существует, а на выработку предписаний (прескрипций), говорящих, как нам следует поступать: какое поведение является моральным, должным или в целом рационально правильным; какой способ рассуждения является верным и какой познавательный процесс действительно ведет нас к приобретению знания. При этом, конечно, эти дисциплины нацелены и на прояснение того, как именно следует понимать нормативность в соответствующей области.
В философии сознания тематика нормативности появляется редко. Во многом это связано с тем, что данная дисциплина мыслится в первую очередь как метафизика сознания, как раздел, претендующий на объяснение того, что такое сознание и в каких каузальных отношениях к миру, прежде всего к телу, оно находится. Однако при этом часто упускаются из виду эпистемологические вопросы, связанные с познавательными отношениями сознания к миру. Это прежде всего вопросы о природе восприятия и перцептивного знания. Проблематика нормативности в философии сознания возникает именно в связи с необходимостью ответа на эти вопросы. Важно, что обращение к этой проблематике позволяет нам ответить не только на эпистемологические вопросы, но и решить ряд метафизических проблем. Например, как будет показано в этой статье, именно нормативный характер интенциональных состояний позволяет нам отстаивать экстернализм относительно ментального содержания, преодолевая тем самым картезианские установки, навязывающие нам понимание сферы ментального как чего-то внутреннего, отделенного от мира.
Многие согласятся, что основания современного понимания сознания были заложены Декартом. Порывая с аристотелианским представлением о психике как анимирующем принципе, Декарт открывает феноменальное измерение нашего психического опыта. Именно с ним отождествляется сознание. К подобному выводу Декарт приходит, осуществляя процедуру методического сомнения. Например, он так пишет о цели данной процедуры: «Я хочу устранить все то, что допускает хоть малейшую долю сомнения, причем, устранить не менее решительно, чем если бы я установил полную обманчивость всех этих вещей; я буду продолжать идти этим путем до тех пор, пока не сумею убедиться в чем-либо достоверном - хотя бы в том, что не существует ничего достоверного» [Декарт, 1994, с. 21].
Осуществляя данную процедуру, мы можем сомневаться в существовании внешнего мира, нашего тела, как части внешнего мира, психических процессов, как принадлежащих телу. Однако мы не можем сомневаться в том, что нам кажется, что все то, что мы ставим под сомнение, существует. Декарт так говорит об этом: «Я - тот, кто чувствует и кто как бы с помощью этих чувств замечает телесные вещи: иначе говоря, я - это тот, кто видит свет, слышит звуки, ощущает жар. Все это - ложные ощущения, ибо я сплю. Но достоверно, что мне кажется (выделено мной. - Д.И.), будто я вижу, слышу и согреваюсь.
Последнее не может быть ложным, и это, собственно, то, что именуется моим ощущением: причем взятое именно в этом смысле ощущение есть не что иное, как мышление» [Декарт, 1994, с. 25]. То, что на русский язык переведено как мышление, используется Декартом в широком смысле как синоним «сознания» (сошаеПла). Иначе говоря, сознание отождествляется мыслителем со сферой кажимостей, явлений, феноменальных данностей. Тот факт, что его существование может мыслиться независимо от существования внешнего мира, как полагал Декарт, открывает путь для различного рода дуалистических теорий.
Действительно ли сознание, взятое в его феноменальных аспектах, пред-ставимо независимо от положений дел во внешнем мире? Декарт допускает, что ощущения камина, перед которым он сидит в халате, и тепла, исходящего от него, являются ложными ощущениями, наваждением, сном («А как часто виделась мне во время ночного покоя привычная картина - будто я сижу здесь, перед камином, одетый в халат, в то время как я раздетый лежал в постели!» [там же, с. 17]), которые могли бы наличествовать даже в том случае, если бы мир вообще не существовал. Однако каким образом Декарт или любой другой гипотетический субъект, занимающий позицию радикального скептицизма, мог бы знать, что он воспринимает камин, халат и т.д.?
Данный вопрос не касается того, знает ли субъект нечто о существовании внешнего мира или о том, соответствует ли представление камина самому камину. Мы допустили, как и радикальный скептик, что мир может не существовать. Вопрос заключается в следующем. Исходя из того, что мир не существует и что субъект имеет дело исключительно с феноменальными данностями в сфере своего сознания, каким образом он знает, что феноменальная данность, выделяемая им в конкретный момент понятием «камин», действительно подпадает под это понятие? Отвечая на этот вопрос, можно указать на определенную практику, которой придерживается субъект, - всякий раз, как он регистрирует феноменальную данность с соответствующими характеристиками, он обозначает ее соответствующим термином (фиксирует определённым понятием). Однако, поскольку субъект замкнут в сфере своего сознания, постольку эта практика выделения соответствующим образом определенной феноменальной данности зависит исключительно от произвола самого субъекта. Можно возразить, сказав, что субъект опирается на память предшествующих случаев выделения этой данности, но поскольку память может подводить, постольку в каждом конкретном случае субъект вынужден заново определять, с чем он имеет дело. Единственный же критерий, на который он может положиться в каждый конкретный момент, заключается в том, что ему просто кажется, что он прав, осуществляя соответствующее выделение.
Очевидно, что мы не можем охарактеризовать этот способ выделения данностей как направляемый какими-либо нормами, определяющими правильный и неправильный способ действия. Правильное и неправильное превращается в нечто, зависящее от мимолетного психического состояния субъекта, которому определенный способ действия в один момент может показаться правильным, в другой - неправильным, при этом субъект будет убежден, что он всегда поступал в соответствии с тем, что ему кажется правильным в данный
момент. Соответственно, мы не можем говорить о наличии какого-либо знания у данного субъекта, поскольку нормативность является необходимой характеристикой любой познавательной активности.
II
Как можно заметить, приведенное выше рассуждение является воспроизведением витгенштейновской критики идеи индивидуального языка. Витгенштейн следующим образом пишет об этом языке: «Но мыслим ли такой язык, на котором человек мог бы для собственного употребления записывать или высказывать свои внутренние переживания - свои чувства, настроения и т.д.? -А разве мы не можем делать это на нашем обычном языке? - Но я имел в виду не это. Слова такого языка должны относиться к тому, о чем может знать только говорящий, - к его непосредственным, личным впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этого языка» [Витгенштейн, 1994, с. 171]. Представления о таком языке являются картезианскими. Согласно картезианству, мы отделены от мира пеленой своего сознания. Мы имеем дело прежде всего с феноменальными данностями сознания, а не с миром, который вообще мог бы не существовать, если мы мыслим сознание как нечто, подобное наваждению, сну, т.е. чему-то независимому от какого-то объективного положения дел. Однако и в представленном таким образом сознании есть язык. В таком языке значениями языковых выражений будут различные ощущения и образы, т.е. данности сознания.
Поскольку субъект такого сознания не может непосредственно взаимодействовать с чем-то внешним по отношению к его сознанию (например, с другими людьми, с физическими объектами и т.д.), постольку овладение им языком представляется как процесс ассоциирования определенных языковых выражений с соответствующими ощущениями и образами («Я просто ассоциирую имена с ощущениями и пользуюсь ими при описании» [там же, с. 174]). Именно такое понимание языка и сознания Витгенштейн и критикует: «Представим себе такой случай. Я хочу запечатлеть в дневнике какое-то время от времени испытываемое мною ощущение. Для этого я ассоциирую его со знаком О и записываю в календаре этот знак всякий раз, когда испытываю такое ощущение. - Прежде всего замечу, что нельзя сформулировать какую-то дефиницию такого знака. - Но сам для себя я же могу дать ему какое-то указательное определение! - Каким образом? Разве я в состоянии указывать на ощущение? -В обычном смысле - нет. Но, произнося или записывая знак, я сосредоточиваю свое внимание на ощущении - и таким образом как бы указываю на него в своем внутреннем мире. - Но что толку в этой церемонии? Ведь нам лишь представляется, что должно происходить что-то вроде этого! Тогда как дефиниция призвана установить значение знака. - Что же, это как раз и достигается с помощью концентрации внимания, ибо именно так я закрепляю для себя связь между знаком и ощущением. - "Я закрепляю для себя связь" может означать только одно: этот процесс обеспечивает то, что впоследствии я правильно вспоминаю эту связь. Но ведь в данном случае я не располагаю никаким критерием правильности. Так и тянет сказать: правильно то, что мне всегда
представляется правильным. А это означает лишь, что здесь не может идти речь о "правильности"» [Витгенштейн, 1994, с. 174-175].
Некоторые исследователи выделяют в отдельный раздел параграфы «Философских исследований», в которых Витгенштейн обсуждает идею индивидуального языка (§§ 243-275). Однако, как полагает Крипке, эти параграфы являются продолжением темы, которую Витгенштейн начал обсуждать в предыдущих параграфах (§§ 138-242). В этой части своей работы философ обращается к проблеме следования правилам в контексте проблемы значения языковых выражений. Как пытался продемонстрировать Витгенштейн, понимание значения языкового выражения по сути является пониманием правил его употребления. Очевидно, что, когда мы обсуждаем правила определенного поведения, мы эксплицитно затрагиваем проблему нормативности. Как отмечает Торнтон, «любое правило эксплицитным образом нормативно: оно устанавливает те шаги, которые ему соответствуют, и те, которые не соответствуют» [Thornton, 2004, p. 28]. Иначе говоря, понимание правила налагает на субъекта обязанность действовать определенным образом, в случае с языком мы можем сказать, что понимание значения языкового выражения принуждает нас употреблять это выражение согласно соответствующей прагматике. Макдауэл предлагает понимать эту связь в терминах контракта: «Мы находим это естественным думать о значении и понимании, так сказать в терминах контракта» [McDowell, 1998a, p. 221]. Подобная контрактуалистская позиция позволяет зафиксировать тот факт, что нормативная связь устанавливается именно между пониманием правила и последующим действием, паттерном поведения в целом. Если кто-то хочет освоить некоторую практику, например, выучить язык, то понимание правил соответствующего вида активности предполагает, что субъект берет на себя обязательства действовать определенным образом.
Важно отметить, что все сказанное о значении языковых выражений может быть применено и к содержанию ментальных состояний в целом. Значения языковых выражений обладают нормативным характером. В этом они подобны правилам социальных практик, понимание которых принуждает субъекта действовать определенным образом. Содержание ментальных или, лучше сказать, интенциональных состояний также подобно правилам. Как пишет Торнтон, «интенциональные ментальные состояния подобны в том, что они также устанавливают те действия или события, которые им соответствуют или удовлетворяют их. Так, например, наличие ментального состояния, подобного ожиданию, накладывает стандарт, с помощью которого можно выносить суждения о мире. В случае ожидания последующие события будут либо удовлетворять, либо подрывать его, и то, от чего это зависит, определяется самим ожиданием» [Thornton, 2004, p. 28]. Торнтон указывает на нормативный характер интенциональных состояний, комментируя высказывания Витгенштейна по данному вопросу, например, следующий пассаж из «Философских исследований»: «Желание как бы заведомо знает, что его удовлетворит или удовлетворило бы; предложение, мысль - что их сделает истинными, даже если на самом деле этого вовсе не случится! Откуда это определение того, чего еще нет в наличии? Это деспотичное требование? ("Жесткость логической необходимости")» [Витгенштейн, 1994, с. 213].
Резюмируя, можно сказать, что нормативность интенциональных состояний проявляется в том, что содержание данных состояний определяет условия выполнимости данного состояния, накладывая на субъекта обязательство действовать в соответствии с данными условиями или способствовать реализации этих условий.
III
Если мы учитываем нормативность сознания и языка, то следует отказаться от картезианских представлений о сознании как сфере приватных феноменальных данностей. Значения языковых выражений и содержание ментальных состояний связаны с правилосообразной деятельностью, о которой Витгенштейн писал следующее: «Правилу нельзя следовать лишь "приватно"; иначе думать, что следуешь правилу, и следовать правилу было бы одним и тем же» [Витгенштейн, 1994, с. 163]. Иначе говоря, отмечая эту связь значений и содержания с правилосообразной деятельностью, мы признаем, что сознание с необходимостью предполагает существование чего-то внешнего по отношению к себе. Это внешнее накладывает ограничения на любую сознательную активность. Только соизмеряя эту активность с чем-то внешним, мы можем начать говорить о ее правильности или неправильности.
Несмотря на то, что аргументация Витгенштейна ударяет в самое ядро картезианского представления о сознании, картезианство в какой-то умеренной форме, по-видимому, способно выстоять. Например, признавая, что сознание и внешний мир связаны необходимым образом, мы можем по-прежнему продолжать считать, что содержание наших ментальных состояний является чем-то внутренним для нас, что находится «в голове». При этом содержание часто мыслится как нечто, противостоящее неоформленной концептуально «грубой» реальности, откуда оно вычленяется с помощью разных процедур, например, абстрагирования или интерпретации. Скажем, схватывание значения языкового выражения или в целом понимание правил некоторой (языковой) практики представляется как результат интерпретирования каких-то событий, разворачивающихся перед нами.
Позволяет ли подобное умеренное картезианство учесть нормативные аспекты ментальных состояний? На этот вопрос можно ответить отрицательно. Дело в том, что, осваивая какую-либо деятельность, мы сталкиваемся с конечным числом примеров. Это значит, что предшествующий опыт заранее не говорит однозначным образом, как нужно поступать в каждой конкретной ситуации. Столкнувшись с новой ситуацией, мы должны полагаться, соответственно, на общее правило, регулирующее данный вид деятельности. Как умеренные картезианцы мы полагаем, что схватывание, понимание правила является результатом интерпретации предшествующей деятельности, того конечного числа примеров этой деятельности, с которым мы имели дело. Однако конечное число примеров определенной деятельности можно проинтерпретировать различным образом, приводя их таким образом в соответствие с разными правилами. По сути, мы сталкиваемся здесь с парадоксом: любой вид деятельности может быть приведен в соответствие или в противоречие с любым правилом.
Этот парадокс был сформулирован Витгенштейном: «Наш парадокс был таким: ни один образ действия не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действия можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия» [Витгенштейн, 1994, с. 163].
Как отмечает Крипке, Витгенштейн предложил новый вариант скептицизма, который подобен юмовскому скептицизму, ставящему под сомнение связь прошлого и будущего [Крипке, 2010]. Применяя определенное правило в новой ситуации, субъект может думать, что это применение находится в соответствии с прошлым опытом. Однако, как доказывает Крипке, не существует таких фактов, на которые субъект мог бы опереться как на независимые от его мнения основания для того, чтобы показать, что его нынешняя правилосообразная деятельность является той же самой, что и его предшествующая деятельность. С точки зрения скептика, субъект может указать только на то, что ему кажется, что он действует в соответствии с предшествующим опытом.
Иначе говоря, если те примеры определенного вида деятельности, с которыми я познакомился в прошлом, могут породить две интерпретации того, какие правила регулируют этот вид деятельности, то, пытаясь в будущем осуществить то же самое действие, я буду ссылаться на одни правила, игнорируя другие. При этом, если моя осмысленная, правилосообразная деятельность зависит лишь от моей способности интерпретировать свой предшествующий опыт взаимодействия с миром, то скептик всегда может указать мне на то, что я не знаю, соответствуют ли мои нынешние действия прошлому опыту, скажем, правильно ли я употребляю определенное языковое выражение. Как пишет Крипке, «скептик утверждает (или делает вид, что утверждает), что я сейчас ошибочно интерпретирую свое собственное предшествующее употребление». Если это действительно так и если, «потеряв разум или приняв ЛСД, я пришел к неверному истолкованию своего собственного предшествующего употребления» [там же, с. 22-23], то у меня нет никакого способа выяснить, действую ли я в соответствии с прошлым опытом или мне это только кажется. Поскольку единственный критерий, на который я могу ссылаться, утверждая правильность моего понимания правил определенной деятельности, заключается в том, что мне так кажется, постольку понимание сознательной активности, предлагаемое в умеренном картезианстве, по-прежнему не затрагивает нормативный аспект.
Пытаясь избежать представленного скептицизма, мы можем попытаться утверждать, что, несмотря на мыслимость этого варианта скептицизма в обычной жизни, нам доступно правильное понимание того, как действовать. Мак-дауэл обозначил этот вариант ответа как необузданный платонизм. Согласно этому взгляду, у нас всегда есть доступ к правильной интерпретации того, как взаимодействовать с миром. Однако такой ответ не является опровержением обсуждаемого скептицизма. По сути, это по-прежнему утверждение того, что правильное - это то, что мне кажется правильным.
Другой вариант реакции на данный скептицизм заключается в том, что мы соглашаемся со скептиком: несмотря на то, что нам кажется, что мы действуем, как и прежде, мы все же не знаем, правильно ли мы поступаем в опреде -ленной ситуации, находятся ли наши поступки в соответствии с прошлым опытом. Принимая это положение, мы можем попытаться объяснить правило-сообразную деятельность, апеллируя к особенностям нашего функционирования в мире и в обществе, например, выявляя соответствующие каузальные механизмы, делающие возможным существование диспозиций к разным видам поведения. Однако такая позиция дает лишь иллюзию понимания правилосо-образной деятельности. По сути, нормативный характер сознательной активности исчезает при таком подходе.
Таким образом, если мы хотим избежать столкновения со скептическим парадоксом и его последствиями, то нам следует отказаться от понимания содержания ментальных состояний как результата интерпретации событий внешнего мира. Нам нужно отказаться от понимания интерпретации как процедуры, вычитывающей, абстрагирующей смыслы, значения, правила, регулирующие наше взаимодействие с миром, из противостоящего нам внешнего мира неконцептуальных данных. Как отмечал Витгенштейн, «существует такое
понимание правила, которое является не интерпретацией, а обнаруживается
« » (( •-> » в том, что мы называем следованием правилу и действием вопреки правилу в реальных случаях его применения» [Витгенштейн, 1994, с. 163].
IV
Понимание правила, о котором говорит Витгенштейн, обеспечивается погружением в соответствующую практику. При этом неверно понимать погружение в практику как простое приобретение диспозиций к некоторому поведению. Обозначенное решение, как было отмечено, теряет нормативный аспект правилосообразной деятельности. Для того чтобы сохранить нормативный аспект, нам необходимо понять погружение в практику в духе Макдауэла, как обретение «второй природы», обретение способности действовать в силу рациональных оснований. При этом основания не могут быть поняты как смыслы, значения, правила и т.д., которые находятся у нас «в голове», противопоставлены сырым, неконцептуализированным данным внешней реальности, а сами при этом рассматриваются как результат интерпретации, обработки этих данных. Такой подход, как мы видели, столкнет нас со скептическим парадоксом. Нам необходимо понять рациональные основания, в силу которых мы действуем, погружаясь в соответствующую практику, как нечто объективное. Этот взгляд принимает в своих работах Макдауэл, обозначая его как натурализованный платонизм.
Понимая рациональные основания как нечто объективное, мы, по сути, занимаем экстерналистскую позицию в философии сознания, отказываясь от каких-либо элементов интернализма, свойственного картезианству. Рациональные основания, понятые как смыслы, содержания наших ментальных состояний, которые направляют наши действия, одновременно понимаются как объективные факты, с которыми мы сталкиваемся. Подобный вариант экстернализма
отстаивает Макдауэл, который пишет следующее: «То, что вещи такие-то и такие, есть концептуальное содержание опыта, но ... этот же самый момент, то, что вещи такие-то и такие, также является воспринимаемым фактом, аспектом воспринимаемого мира»1 [McDowell, 1994, p. 26].
Экстернализм не является какой-то экстравагантной позицией. С семидесятых годов прошлого века этот взгляд завоевывает все больше сторонников в области философии языка и сознания. Вот, например, что пишет об экстер-нализме в философии сознания один из ведущих представителей этой дисциплины Ф. Дретске: «Материалисты должны быть склонны принимать до определенной степени экстерналистскую позицию относительно сознания. Трудно понять, как от этого можно уклониться. Убеждения, самые заметные жители сознания, и их индивидуация осуществляется в терминах того, о чем эти убеждения. Я не знаю ни одной приемлемой психосемантики, ни одной приемлемой теории, объясняющей то, как одна вещь может представлять другую, которые не были бы по своему характеру экстерналистскими» [Dretske, 1996, p. 143].
Основной вклад в развитие этого подхода внесли такие философы, как Крипке и Патнэм. Однако в контексте аналитической философии с экстерна-лизмом относительно содержания мы встречаемся уже в работах Б. Рассела, человека, стоявшего у истоков данной философской традиции. Согласно Расселу, содержанием наших мыслей являются пропозиции, их конституентами же являются сами объекты, которым мы приписываем какие-либо свойства. Можно сказать, что описание этих объектов является чем-то внутренним, ментальным. Сами же объекты являются экстраментальными элементами.
Экстерналистскую позицию, подобную той, что предлагал Рассел, можно обозначить как двухкомпонентный экстернализм. Она предполагает, что какая-то часть содержания наших суждений, мыслей является чем-то внешним, экстраментальным объектом, о которым высказывается нечто в суждении, а какая-то часть содержания по-прежнему остается внутренней для сферы ментального. Например, эта часть может пониматься как описание, дескрипция, с помощью которой мы характеризуем объект. Как можно видеть, такой вариант экстернализма не представляет существенной угрозы для интерналистов. Интерналисты могут допустить, что, понимая содержание в расширительном смысле, мы должны учитывать внешние объекты как вносящие вклад в общую семантику суждения, мысли. Однако, с их точки зрения, наиболее существенным элементом этой семантики является ограниченное содержание (narrow content), которое по-прежнему должно пониматься как нечто внутреннее для сферы ментального.
Макдауэл справедливо характеризовал двухкомпонентный экстернализм, подобный расселовскому, как вариант картезианства. Действительно, принимая этот взгляд, мы по-прежнему рассматриваем сознание как отделенное от внешнего мира, например, системой дескрипций. Рассел полагал, что, по сути, практически все имена являются скрытыми дескрипциями. Подлинными же именами следует считать лишь указательные местоимения такие, как «этот»
Перевод впервые опубликован в: [Иванов 2017, с. 41].
и «тот». Однако они указывают не на сам объект, а на чувственные данные, которые могут пониматься как элементы сознательного опыта. Можно сказать, что хотя Рассел и предложил двухкомпонентный вариант эсктернализма, в действительности его взгляды правильнее было бы охарактеризовать как интерна-листские. Мы имеем доступ к миру либо посредством описаний, либо посредством знакомства с чувственными данными.
Возрождение экстернализма в семидесятые годы прошлого века было связано во многом с отказом от расселовской теории дескрипций. Как продемонстрировал Крипке, имена не являются скрытыми дескрипциями. Они характеризуются прежде всего способностью непосредственно осуществлять референцию к внешним объектам. Суть критики Крипке можно представить словами М. Маккинси: «Аргументы Крипке против теории имен как сокраще-ний-для-дескрипций основываются на некоторых весьма убедительных интуи-циях в отношении модальных свойств предложений, содержащих обычные имена. Рассмотрим, например, гипотезу о том, что имя "Аристотель" является сокращением описания "последний великий философ античности". Если бы эта гипотеза была правильной, тогда предложение
(2) Аристотель не был философом
выражало бы ту же самую пропозицию, что и предложение
(3) Последний великий философ античности не был философом.
Однако, в противоположность данной гипотезе, достаточно ясно, что (2) и (3) не выражают одну и ту же пропозицию, ибо (2) выражает возможную истину, а (3) с необходимостью выражает ложь» [Маккинси, 1998, с. 297].
Аргументы, подобные тем, что были предложены Крипке, а также Пат-нэмом, убедили многих философов занять экстерналистскую позицию в философии языка и философии сознания. Однако принимаемый большинством философов вариант экстернализма оставался двухкомпонентным. Это значит, что он в какой-то степени сохранял связь с интерналистскими, картезианскими представлениями о сознании. Для того чтобы разорвать эту связь, нам, по мнению Макдауэла, необходимо принять однокомпонентную версию экстернализма.
Как полагает Макдауэл, для этого нам необходимо понимать пропозицию не в расселовском смысле, как включающую экстраментальный компонент, а во фрегеанском ключе - как мысль. Для такой мысли нет ничего внешнего. Объект, о котором нечто высказывается, не является чем-то внешним для мысли. Я проинтерпретировал бы этот тезис следующим образом. Объект является частью мысли в качестве интенционального объекта. Принимая фрегеан-ский взгляд на природу пропозиций, Макдауэл одновременно предлагает понимать мысль в модальности de re [McDowell J., 1998b, p. 214]. Мысль не является чем-то, что находится «в голове». Как уже было отмечено, содержанием наших ментальных состояний, когда мы не ошибаемся, является само положение дел, некий факт.
Важно подчеркнуть следующий момент для того, чтобы не возникло ощущения, что Макдауэл предлагает какой-то особый вариант субъективного идеализма. Макдауэл отмечает, что понятие «мысль» можно понимать двояко.
Говоря о мысли, мы можем иметь в виду содержание мысли, а можем подразумевать сам психический процесс мышления. С положением дел в мире Макдауэл отождествляет лишь содержание мышления. Сам же процесс мышления, конечно же, является внутренним психическим явлением.
Как я полагаю, такое понимание мышления, сознательной активности в целом, позволяет нам наилучшим образом раскрыть феномен нормативности сознательного опыта. Когда мы говорим о нормативности, мы, как правило, имеем в виду, что на субъекта накладываются определенные, не зависимые от него, ограничения, которые он должен учитывать в своей деятельности, если хочет достичь определенных целей. Эти ограничения не имеют силу каузальной принудительности, когда субъект, собственно, перестает быть субъектом, а оказывается лишь объектом среди других объектов физического мира. Ограничения, которые налагает на нас мир, являются нормативными тогда, когда мы способны действовать свободно, распознавая какое-либо положение дел как основание для определенного действия и соглашаясь с необ -ходимостью действовать в силу этого основания, принимая на себя обязательства придерживаться определенной линии поведения. В терминах Макдауэла это означает, что мы открыты миру. Подобное понимание сознательного отношения к миру возможно, если мы понимаем основания одновременно как нечто концептуально оформленное, что может быть содержанием наших ментальных состояний, и как объективное положение дел. В соответствие же с миром, с содержанием сознательного опыта, приводится наша сознательная активность, связанная со способностью реагировать на основания, которую мы приобретаем, погружаясь в определенную социальную практику, обретая «вторую природу».
Список литературы
Витгенштейн, 1994 - Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. Пер. с нем. / Сост., вступ. статья, примеч. М.С. Козловой; пер. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. 612 с.
Декарт, 1994 - Декарт Р. Сочинения: в 2 т. / Пер. с лат. и фр.; сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1994. Т. 2. 633 с.
Крипке, 2010 - Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Пер.
B.А. Ладова, В.А. Суровцева / Под общ. ред. В.А. Суровцева. М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2010. 256 с.
Маккинси, 1998 - Маккинси M. Фреге, Рассел и проблема, связанная с понятием «убеждение» / Пер. А.Ф. Грязного // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / Пер. с англ., нем. М.: Дом интеллектуальной книги: Прогресс-Традиция, 1998.
C. 290-301.
Dretske, 1996 - Dretske F. Phenomenal Externalism or If Meaning Ain't in the Head, Where Are Oualia? // Philosophical Issues. 1996. Vol. 7. Perception. P. 143-158.
McDowell, 1994 - McDowell J. Mind and World. Cambridge: Harvard University Press, 1994. 191 p.
McDowell, 1998a - McDowell J. Mind, Value and Reality. Cambridge: Harvard University Press, 1998. 400 p.
McDowell, 1998b - McDowell J. Meaning, Knowledge and Reality. Cambridge: Harvard University Press, 1998. 462 p.
Thornton, 2004 - Thornton T. John McDowell. Montreal, Kingston: McGill-Oueen's University Press, 2004. 208 p.
Normativity in philosophy of mind
Dmitry V. Ivanov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation; e-mail: ivdmitry@mail.ru
The paper deals with the problem of normativity in the philosophy of mind. It points out that the normativity of conscious experience has long been ignored in the discipline. This is largely due to the fact that philosophers paid attention primarily to the metaphysical aspects of mind. The work also notes that the turn to the epistemology of mind makes it important to study the normativity of mental states. Such research can help us not only to clarify a number of epistemological questions, but also to solve some metaphysical questions. In particular, an inquiry into the problem of normativity can justify an acceptance of externalism in the philosophy of mind. In the paper, the problem of normativity in the philosophy of mind is considered through the viewpoint of the rule-following problem, posed by Wittgenstein. It demonstrates that any internalist understanding of the content of mental states either ignores the normative aspect of conscious experience or faces the skeptical paradox formulated by Wittgenstein. The only way to avoid these difficulties is to adopt the externalist view about the content of mental states advocated by John McDowell. According to this position, the content of mental states is understood as an objective state of affairs, which can function as a reason for the conscious activity of the subject.
Keywords: philosophy of mind, normativity, rule-following, content of mental states, exter-nalism
References
Descartes, R. Sochinenija v 2 t. [Works in 2 Vols.] Moscow: Mysl Publ., 1994, 633 pp. (In Russian)
Dretske, F. "Phenomenal Externalism or If Meaning Ain't in the Head, Where Are Oualia?", Philosophical Issues, 1996, vol. 7, Perception, pp. 143-158
Kripke, S. Vitgenshtejn o pravilah i individual'nom jazyke [Wittgenstein on Rules and Private Language], Moscow: Kanon + Publ., 2010, 256 pp. (In Russian).
McDowell, J. Meaning, Knowledge and Reality. Cambridge: Harvard University Press, 1998. 462 pp.
McDowell, J. Mind and World. Cambridge: Harvard University Press, 1994. 191 pp. McDowell, J. Mind, Value and Reality. Cambridge: Harvard University Press, 1998. 400 pp. McKinsey, M. "Frege, Rassel i problema, svjazannaja s ponjatiem 'ubezhdenie'" [Frege, Russell, and a Problem about Belief], in: Analiticheskaya filosofiya: Stanovlenie i razvitie [Analytic Philosophy: Formation and Development], ed. by A.F. Griaznov. Moscow: The House of the Intellectual Book, Progress-Tradiciya Publ., 1998, pp. 290-301. (In Russian)
Thornton, T. John McDowell. Montreal, Kingston: McGill-Oueen's University Press, 2004. 208 pp.
Wittgenstein, L. Filosofskie raboty. Chast' I. [Philosophical papers. Part I]. Moscow: Gnosis Publ., 1994. 612 pp. (In Russian)





 CC BY
CC BY 58
58