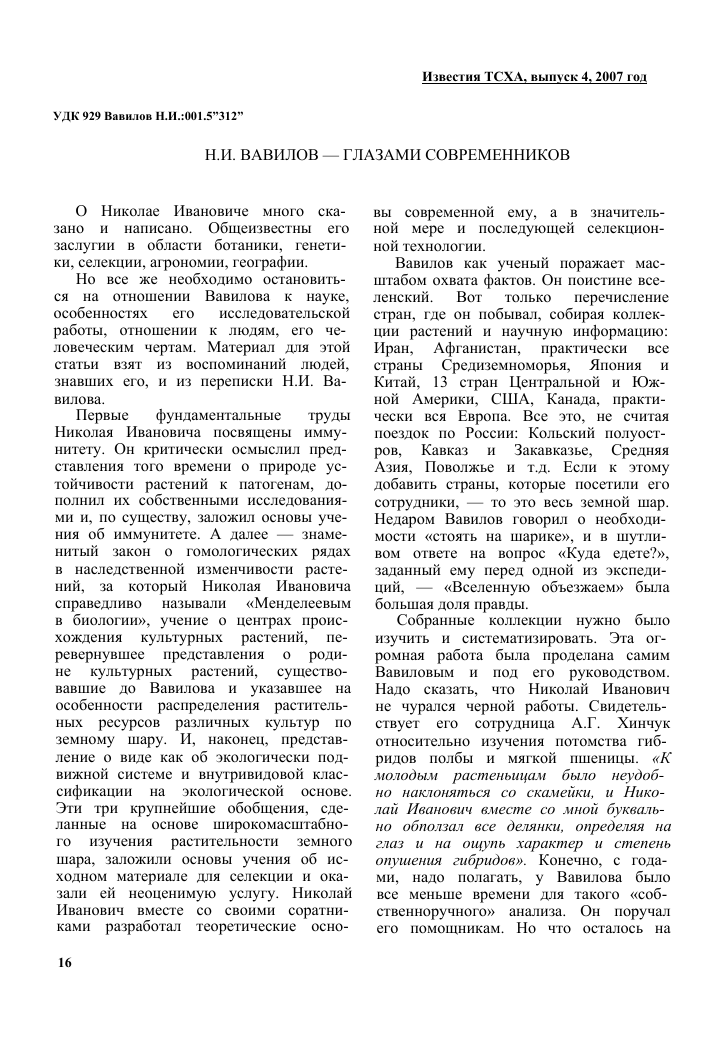Известия ТСХА, выпуск 4, 2007 год
УДК 929 Вавилов Н.И.:001.5"312"
Н.И. ВАВИЛОВ — ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
О Николае Ивановиче много сказано и написано. Общеизвестны его заслугии в области ботаники, генетики, селекции, агрономии, географии.
Но все же необходимо остановиться на отношении Вавилова к науке, особенностях его исследовательской работы, отношении к людям, его человеческим чертам. Материал для этой статьи взят из воспоминаний людей, знавших его, и из переписки Н.И. Вавилова.
Первые фундаментальные труды Николая Ивановича посвящены иммунитету. Он критически осмыслил представления того времени о природе устойчивости растений к патогенам, дополнил их собственными исследованиями и, по существу, заложил основы учения об иммунитете. А далее — знаменитый закон о гомологических рядах в наследственной изменчивости растений, за который Николая Ивановича справедливо называли «Менделеевым в биологии», учение о центрах происхождения культурных растений, перевернувшее представления о родине культурных растений, существовавшие до Вавилова и указавшее на особенности распределения растительных ресурсов различных культур по земному шару. И, наконец, представление о виде как об экологически подвижной системе и внутривидовой классификации на экологической основе. Эти три крупнейшие обобщения, сделанные на основе широкомасштабного изучения растительности земного шара, заложили основы учения об исходном материале для селекции и оказали ей неоценимую услугу. Николай Иванович вместе со своими соратниками разработал теоретические осно-
вы современной ему, а в значительной мере и последующей селекционной технологии.
Вавилов как ученый поражает масштабом охвата фактов. Он поистине вселенский. Вот только перечисление стран, где он побывал, собирая коллекции растений и научную информацию: Иран, Афганистан, практически все страны Средиземноморья, Япония и Китай, 13 стран Центральной и Южной Америки, США, Канада, практически вся Европа. Все это, не считая поездок по России: Кольский полуостров, Кавказ и Закавказье, Средняя Азия, Поволжье и т.д. Если к этому добавить страны, которые посетили его сотрудники, — то это весь земной шар. Недаром Вавилов говорил о необходимости «стоять на шарике», и в шутливом ответе на вопрос «Куда едете?», заданный ему перед одной из экспедиций, — «Вселенную объезжаем» была большая доля правды.
Собранные коллекции нужно было изучить и систематизировать. Эта огромная работа была проделана самим Вавиловым и под его руководством. Надо сказать, что Николай Иванович не чурался черной работы. Свидетельствует его сотрудница А.Г. Хинчук относительно изучения потомства гибридов полбы и мягкой пшеницы. «К молодым растеньицам было неудобно наклоняться со скамейки, и Николай Иванович вместе со мной буквально обползал все делянки, определяя на глаз и на ощупь характер и степень опушения гибридов». Конечно, с годами, надо полагать, у Вавилова было все меньше времени для такого «собственноручного» анализа. Он поручал его помощникам. Но что осталось на
всю жизнь — это внимательнейший осмотр растений в экспедициях, на станциях ВИРа, в других учреждениях. Л.Л. Декапрелевич, член-корреспондент Груз. АН, рассказывает, что в Армении, в районе произрастания пшениц-дикарей, Вавилов за день обегал несколько квадратных километров, «спускаясь на дно оврагов и вновь поднимаясь на вершины», и вконец «замотал» своих спутников, и при этом не пропускал «ни одного даже небольшого посева, выискивая крупноколосые, крупнозерные, устойчивые к грибным заболеваниям формы».
Н.И. Вавилов обладал мощным аналитическим умом. Об этом свидетельствуют глобальные обобщения, о которых говорилось в начале. Он обладал феноменальной научной интуицией. И не только в своей специальной области. Известный физиолог, академик Николай Александрович Максимов поражался осведомленностью Николая Ивановича в вопросах физиологии растений и его «непостижимым чутьем наиболее назревших проблем этой науки». «Ученый должен искать истину, ценить ее дороже личных желаний или отношений» — эти слова Чернышевского отражают отношение Николая Ивановича Вавилова к науке, но не в полной степени. Николай Иванович работу в науке ощущал скорее не как долг, а как неодолимую потребность. Вот слова самого Вавилова: «Если ты встал на путь ученого, то помни, что обрек себя на вечные искания нового, на беспокойную жизнь до гробовой доски. У каждого ученого должен быть мощный ген беспокойства. Он должен быть одержимым».
Технология научного творчества начинается с освоения всего того, что сделали предшественники по исследуемой проблеме. В ВИРе был такой порядок: начинающий сотрудник должен был представить обзор литературы по порученному ему вопросу. Только получив санкцию отдела, а часто и самого Вавилова, он мог приступать к
экспериментальной работе. Возвращаясь из поездок, Вавилов непременно привозил специальную литературу. Имел обширную домашнюю библиотеку. Причем книги давал всем желающим без ограничения (оставлял только записочки, кто взял).
Широта охвата литературы у Вавилова необыкновенная. Тут не только специальная ботаническая и селекционно-генетическая литература. Читает труды по географии, истории. Изучает даже талмуд, чтобы восстановить картину земледелия библейских времен. Читает классиков античности. Знания свои Вавилов никогда не держал при себе, широко ими делился. В ВИРе устраивались специальные заседания под названием «источниковедение». На них Вавилов в краткой и живой форме знакомил научный коллектив с новостями специальной литературы. Если появлялась новая оригинальная зарубежная статья, Николай Иванович немедленно созывал ведущих научных сотрудников. Обсуждалось, как развернуть исследования в новом направлении, чтобы превзойти достижения зарубежной науки.
Вавилов придавал исключительное значение вопросам приоритета. Он хотел, чтобы ВИР был впереди других институтов. Известный физиолог растений Мошков, работавший в ВИРе, вспоминает, как был огорчен Вавилов, узнав, что результаты опытов ИФРа, подобные- тем, которые вел Мошков, готовятся к публикации. Вавилов сурово ему выговаривал и заставил срочно написать статью, которую тут же направил в уже сверстанный журнал.
Колоссальное значение Николай Иванович придавал издательской деятельности. Прекрасно поставлен был в ВИРе журнал «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции». Доставалось от Вавилова тем сотрудникам, которые отличались медлительностью в литературном оформлении результатов своих исследований. Принимались даже крайние меры. Го-
товилась рукопись книги «Земледельческий Афганистан». Писал ее Вавилов вместе с агрономом Д.Д. Букини-чем. Вавилов свою часть окончил, а Бу-кинич никак не собрался даже начать. Тогда Вавилов пригласил его в свой кабинет и, улыбаясь, но твердо, сказал, что отныне он будет жить в нем безвыездно до окончания своей части работы. Букинич не посетовал на дружеский арест и работу закончил. В другой раз досталось сотруднику Проханову, который не сдал вовремя статью по систематике лука. Выговор был сделан на английском, который Проханов хорошо знал, но не менее хорошо и члены английской делегации, которые при сем присутствовали и улыбались. В других обстоятельствах Вавилов оказывал максимальную помощь, чтобы публикация появилась. Так было со статьей об австралийских акациях молодого сотрудника Николаева. В силу ряда обстоятельств, от него не зависящих, статью надо было дать в короткий срок. Вавилов освободил его от текущих дел на месяц, и статья была написана. Вавилов считал очень важными и монографические труды-сводки. Приводил при этом восточную пословицу: «Прочти 100 книг, а напиши одну. Но такую, чтобы в 100 прочитанных книг народ уже носа своего не совал, а читал бы только твою. И не просто читал, а зачитывался».
Большое значение придавалось выступлениям и докладам. Вавилов не терпел скучных монотонных выступлений, да еще и бессодержательных. Вот что он говорил: «А ты должен сделать доклад так, чтобы мухи не дохли! Помнить должен, что тебя не бревна, а живые люди слушают». Нечего и говорить, что доклады Вавилова и в России и за границей выслушивались с полнейшим вниманием.
В науке Вавилов никогда не шел проторенными путями. Не копировал работы зарубежных ученых (разве только проверял их). Наоборот, учи-
лись у него. Когда было обнародовано учение о центрах происхождения культурных растений, американцы стали посылать туда экспедиции, отказавшись от своего, по меткому выражению С.М. Букасова, «механического коллекционирования». Надо сказать, что американские охотники за растениями проделали огромную работу по сбору коллекций, да и начали ее на 30 лет раньше, чем Россия. Но нужен был титанический ум Вавилова, чтобы уловить в разнообразии культурной, и не только культурной, флоры земного шара определенные правильности.
Он был чужд рекламе. Против каких-либо преувеличений в научных и научно-популярных статьях Вавилов всячески боролся. После его доклада один журналист, используя стенограмму, написал статью и попросил Вавилова ее просмотреть. Николай Иванович обнаружил там ряд хвалебных отступлений от текста доклада и потребовал их вычеркнуть.
Об экспедициях Вавилова стоит сказать отдельно. Он организовывал их и осуществлял, преодолевая колоссальные трудности. Денег не было. В то время как американские экспедиции щедро финансировались. Вавилов путешествовал на скудные средства. В этих обстоятельствах вполне проявились невероятная энергия, организаторский талант и бесстрашие Николая Ивановича. Вот он верхом на лошади, которая, испугавшись, понесла по горной тропе. Рядом пропасть. Вот пустыня и примитивный самолет, совершивший вынужденную посадку. Вавилов жжет костер, чтобы оборониться от рыскающего рядом льва. Караван в верховьях Нила переправляется через реку. Сначала гонят стадо коров, чтобы распугать крокодилов, а потом идут люди. Случались и анекдотические вещи. Накануне экспедиции по Эфиопии всем носильщикам Вавилов купил ботинки. Наутро все опять босые — ботинки продали на рынке. В Испании
к Вавилову приставлены полицейские шпионы (ну как же — из России, наверное, большевистский агент). Но вавиловских темпов «архангелы» не выдержали, взмолились и попросили Вавилова просто давать им отчет о передвижениях, пока они будут отсиживаться в гостинице. Тут уже не природные препятствия — тут вмешательство политики. Некоторые правительства не дают визы. В Египет и Индию англичане Вавилова так и не пустили. Приходится обходиться поездками туда менее заметных людей — посланников Вавилова. В Южную Америку также нет виз. Но, к счастью, при путешествии самолетом они не требовались, достаточно было транзитного билета.
Нельзя вывезти какое-то растение с вкусными плодами — суровый запрет. Вавилов съедает множество плодов, пряча косточки в карман. А потом чиновник в аэропорту будет удивляться, что Вавилов за столь краткое пребывание в стране поправился чуть ли не на 2 кг. Личного досмотра тогда не проводили. Из каждой экспедиции Вавилов шлет множество посылок с семенами. Из Иерусалима он сообщает: «Послал сегодня 55 посылок по 12 фунтов из Палестины и Транс Иордании»; из Эритреи «4 дня и ночи писал без конца, онемели руки от подписывания 830 бланков, по 7 на посылку. Отправил 59 посылок, до этого послал из Аддис-Абебы, из Джибути 61 посылку».
Стиль руководства Вавилова продиктован научно-исследовательским характером учреждений, где он был директором. Вавилов был в первую очередь научным руководителем, а затем уже администратором. Как администратор он решал крупные вопросы: финансирование, материально-техническое обеспечение. Текущую же административную работу передавал заместителям. Административная часть в ВИРе не главенствовала, а обслуживала научную деятельность института. Сам Николай Иванович це-
нил личность каждого научного сотрудника, не подходил ко всем с одной меркой, не докучал мелочной опекой. В общении был одинаков с любым сотрудником, будь то маститый профессор или молодой лаборант. Всех называл на Вы. Спокойно переносил критику в свой адрес. Не боялся ревизии высказанных им положений. Мелочное тщеславие и вера в собственную непогрешимость были ему абсолютно чужды. Николай Иванович охотно прощал ошибки, сделанные по неопытности, но не терпел некомпетентности, легковесного подхода. При этом снисхождения автору, кто бы он ни был, ждать не приходилось. Рукописи сотрудников он просматривал сам. Обнаружив упущения, фактические ошибки, неосведомленность в литературе и т.д., Вавилов возвращал рукопись для исправления и доработки. Вот как сам Вавилов понимал роль администратора в науке. На замечание одного работника Наркомзема о слабости дисциплины в институте (нет приказов о взысканиях), Вавилов довольно резко ответил: «Я считаю, что приказной режиж в науке непригоден». А потом уже наедине со своим заместителем Ковалевым добавил: «Там, где отдают жизнь, отношения нужно строить на иной основе». Вавилов терпеть не мог всякого проявления хитрости в науке. Был выше, как он говорил, «заячьих петель», говорил, что в науке «хитрить, да кляузы разводить — самое последнее дело». Общая доброжелательность не мешала Вавилову весьма резко и незамедлительно реагировать на любые покушения на его права директора. Характерен в этом смысле случай, когда в отсутствие Вавилова без его ведома заведующим отделом интродукции и заместителем директора института был назначен Арцибашев, совсем не подходивший для этих должностей. Вавилов выступил с резкой критикой его деятельности на ученом совете. Арци-башев вскоре ушел из ВИРа.
Вавилова его недобросовестные оппоненты часто упрекали в отрыве от практики. Мол, деятельность ВИРа направлена на сбор экзотических форм, теоретизирование и для сельского хозяйства ничего не дает. Нет ничего более неоправданного, чем эти упреки. По этому поводу знаменитый селекционер Павел Пантелеймонович Лукьяненко писал: «Используя образцы этой коллекции (речь идет о коллекции ВИРа), советские ученые вывели свыше 60 сортов пшеницы, ржи, ячменя, овса, возделываемых на площади более 20 млн. га». А всего по всем культурам насчитывают около 350 сортов, созданных на основе коллекций ВИРа. Вавилов много сделал для сельскохозяйственного освоения пустынь и северных территорий. Репетекская станция ВИР в Туркмении стала подлинным оазисом в пустыне. План преобразования этой территории был составлен самим Вавиловым. На Кольском полуострове была организована Хибинская станция ВИРа, сыгравшая решающую роль в развитии заполярного земледелия. Опорные пункты имелись даже на земле Франца Иосифа и в Якутии на Колыме. Девизом Вавилова было: «Теория и практика едины».
Николай Иванович Вавилов отдал дань и педагогической работе сначала в Москве, а затем в Саратовском университете. Его лекции собирали полную аудиторию. Приходили не только студенты, но и сотрудники смежных кафедр, селекционной станции. Николай Иванович читал увлеченно и доходчиво. Лекции богато иллюстрировались фотографиями, натурным материалом. Успеху их немало способствовало то, что Николай Иванович излагал часто результаты своих наблюдений, экспериментов. В полной мере он оправдывал слова Катона старшего: «Велик тот учитель, который исполняет делом, чему учит».
Николай Иванович обладал необыкновенной работоспособностью. По свидетельству знавших его, работал по
18 часов в сутки. На сон отводил 4-5 часов. Любил работать ночью, когда никакие дела не мешали. Это о кабинетной работе. В поездках же начинал работу с рассветом и кончал поздно вечером, а то и ночью. Вот график одной из таких поездок на Кавказ. Красная Поляна. В 6 часов утра участники поездки отправились в район через Паашхо. Поздно вечером вернулись в гостиницу в Красную поляну. В 2 часа ночи выехали в Шунтукское отделение ВИРа. Ехали весь день и всю следующую ночь и в 6 часов утра были в Шунтуках. Приехав, Вавилов завтракать не стал, а сразу в поле на осмотр посевов. В 12 завтрак, в 17 обед, отдых до 22 и совещание до 3 ночи. В 11 следующего дня отъезд в Отраду Кубанскую, куда приехали в 5 утра. Неудивительно, что при таком, с позволения сказать, «режиме» сотрудникам станций после посещения Вавилова давали кратковременный отпуск для восстановления сил.
Неутомимость Николая Ивановича отчасти объясняется тем, что он использовал любую паузу, когда нельзя было заниматься работой, для сна. Где бы это ни было. Засыпал он мгновенно. Был такой случай. Вавилов с группой американцев летел из Ганжи в Баку. Из Баку сообщили, что посадка невозможна — сильный ветер. А на обратный полет горючего не хватало. Летчик об этом пассажирам сказал. Все взволновались, а Николай Иванович — раз поделать ничего нельзя — заснул. Удивительное самообладание. К счастью, летчик удачно совершил вынужденную посадку на поле. Принципом Вавилова было «взваливать на себя как можно больше. Это лучший способ как можно больше сделать». Заставить его отдыхать, пойти в отпуск было невозможно. Раз это попытались сделать, купили путевку, но в последний момент Николай Иванович категорически отказался ехать. Научные исследования были его жизнью. Когда один профессор, зная вавиловский режим,
спросил его: «Когда и как Вы находите время для личной жизни?», Вавилов ответил: «Для личной жизни? А разве для меня наука не личная жизнь?».
Николай Иванович обладал феноменальной и очень цепкой памятью. Помнил, где собрал тот или иной образец, при каких обстоятельствах, на каком поле, что росло рядом. Память его была селективной, т. е. не очень удерживала далекое от его научной деятельности. При всей широте интересов Николая Ивановича и здесь существовала селективность. Интересуясь культурой, языком страны, где бывал, он примерял их на свои воззрения относительно родины культурных растений. Вопросами животноводства интересовался особенно в плане выявления и здесь генцентров происхождения. Вопросами физиологии растений — в смысле экологической приспособленности растений на основе внутривидовой систематики.
Вавилов был очень жизнерадостным, оптимистичным человеком и очень доброжелательным. Он с удовольствием принимал участие в обычных развлечениях молодежи, но мимолетно, когда это не мешало работе. Причем это была доброжелательность от души, а не личина внешней доброжелательности, как у многих. Обаяние Вавилова открывало ему сердца людей и очень помогало в работе. На международных конгрессах Вавилова всегда окружали иностранные ученые. Общение с ним было радостью. К тому же Николай Иванович знал много языков и почти с каждым говорил на его родном языке. Свободно говорил на английском, немецком, французском. Знал итальянский, испанский. Даже читал Линнея на латинском языке. Знал персидский (фарси) настолько, что мог разговаривать на нем.
Когда Вавилов приехал в Эфиопию, .император был так очарован беседой с ним, что объявил Вавилова другом эфиопского народа и предписал ока-
зывать ему всяческое содействие. Но такое же дружеское взаимопонимание устанавливалось у Вавилова и с простыми крестьянами.
Чувство юмора в высокой степени было присуще Николаю Ивановичу. Он умел удачной шуткой разрядить обстановку, прервать однообразие какой-либо монотонной работы. Иногда этот юмор обращался в иронию. Так, отвечая на критическую заметку в «Ленинградской правде» относительно того, что один из сотрудников вез из экспедиции за государственный счет свои личные вещи, и в частности штаны, что особенно поразило автора заметки, Вавилов указывает, что это обычная практика (ведь сотрудник ездил не по своей надобности). А далее пишет: «Путешествовать по некоторым тропическим странам возможно, быть может, и без штанов, но в трехлетием путешествии, да еще на высотах Боливии и Перу без этого аксессуара обойтись трудно».
И еще одна деталь. Какую бы фотографию с Вавиловым в кадре мы ни рассматривали, он всегда в костюме-тройке и галстуке. Даже если это базар в Мексике или станция в Средней Азии. И это в то время, когда присутствующие изнывают от жары и сняли с себя все, что возможно. Это, если хотите, определенный стиль, подчеркивающий принадлежность к научной интеллигенции.
Вавилов обладал завидным здоровьем. Но не избежал инфекционных заболеваний. Он болел тифом в Эфиопии и чуть не погиб. Болел малярией. Очень страдал от морской болезни (а ходил по всему Средиземному морю). Но работу во время болезни не прекращал, разве что если совсем было плохо.
Николай Иванович всегда был внимателен к нуждам своих сотрудников. Из США шлет посылки с продуктами в голодный Петроград, достает нужные книги, отправляет сотрудника, нездоровый вид которого ему не по-
нравился, в санаторий. Его сотрудница по Саратову Хинчук вспоминает, что он буквально спас ей жизнь, когда она болела брюшным тифом, достав молока для питания. Николаев, сотрудник ВИРа, пишет о том, как вернувшись из командировки, застал свою жену умирающей от туберкулеза. Спасти ее могла только перемена климата. Когда Вавилову стало об этом известно, он немедленно перевел Николаева в Сухумское отделение и из лаборанта сделал сразу помощником заведующего (других вакансий не было).
Вавилов был патриотом России. Он писал: «Мы можем уступить нашим соседям временно в общем уровне нашего благосостояния, нашего обихода жизни; единственно, в чем мы не можем уступать — это в вооружении нашего интеллекта». Вся его деятельность тому примером. А вот из его письма Г.Д. Карпеченко, которого Вавилов довольно жестко критиковал за отрыв от работы своего института: «Смысл нашего учреждения — это безусловная полезность стране, и нужно уметь сочетать свои личные устремления с общими». В письмах о получении виз Вавилов подчеркивает, что он вне политики и интересы его чисто научные.
Это не маскировка, а чистая правда. Но это не равнодушие жреца «чистой науки» к судьбам страны и народа. Да, он не пристрастен к какой-либо политической идеологии. Политика Вавилова — принести своими исследованиями максимальную пользу России. Не случайно в интервью корреспонденту во Франции он говорит о том, что служит не правительству, а стране.
Необходимо отметить отношение Вавилова к Московской сельскохозяйственной академии. Он здесь учился, начинал работу. Прекрасно представлял себе значение этого учреждения для развития науки и подготовки высококвалифицированных кадров. Всегда живо интересовался делами ее профессоров. Известна его переписка с Прянишниковым, Дояренко, Жега-ловым. Именно он рекомендовал на должность заведующего вновь открытой кафедры селекции С.И. Жегалова и после его смерти — П.И.Лисицына. Он резко выступал против планов ликвидации селекционной станции при Петровской (тогда) академии. А часть сотрудников кафедры и станции — Карпеченко, Синскую и др. — при организации ВИРа пригласил туда, предоставив все условия для жизни и работы.
Д. с.-ж. н., проф. Ю.Б. Коновалов, д. б. н., проф. В.В. Пыльнее





 CC BY
CC BY 69
69