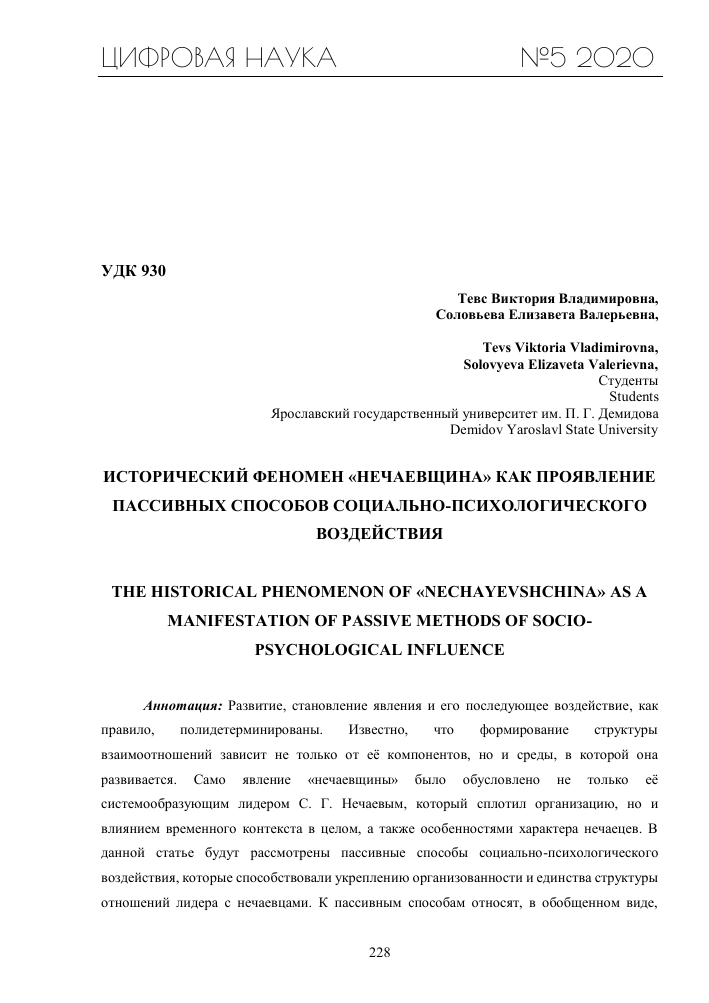УДК 930
Тевс Виктория Владимировна, Соловьева Елизавета Валерьевна,
Tevs Viktoria Vladimirovna, Solovyeva Elizaveta Valerievna,
Студенты Students
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Demidov Yaroslavl State University
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН «НЕЧАЕВЩИНА» КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАССИВНЫХ СПОСОБОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
THE HISTORICAL PHENOMENON OF «NECHAYEVSHCHINA» AS A MANIFESTATION OF PASSIVE METHODS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL INFLUENCE
Аннотация: Развитие, становление явления и его последующее воздействие, как правило, полидетерминированы. Известно, что формирование структуры взаимоотношений зависит не только от её компонентов, но и среды, в которой она развивается. Само явление «нечаевщины» было обусловлено не только её системообразующим лидером С. Г. Нечаевым, который сплотил организацию, но и влиянием временного контекста в целом, а также особенностями характера нечаецев. В данной статье будут рассмотрены пассивные способы социально-психологического воздействия, которые способствовали укреплению организованности и единства структуры отношений лидера с нечаевцами. К пассивным способам относят, в обобщенном виде,
социально-психологические феномены: моду и подражание. Также мы обратили внимание на особенности среды в данном контексте времени. Крайне важно рассмотреть явление «нечаевщины» системно, полагая, что само существование феномена как раз и становится эмерджентным свойством соединения частей в целое. Рассмотрим подробно скрытые, латентные воздействия, которые не зависели непосредственно от воли С. Г. Нечаева, но были опосредованы другими факторами и, в конечном счете, сыграли ключевую роль в образовании феномена «нечаевщины».
Abstract: Development, establishment and further impact are often determined of great number of factors. It is widely known that creation of a relationship structure depends not only on its interior components but also on the exterior environment in which a structure develops. The studied phenomenon was determined not only by its creator and leader S.G. Nechaev but also by both impact of environment conditions in general and features of personalities of Nechaev followers in particular. The article is devoted to consideration of passive methods of socio-psychological affect which contributed to consolidation of relationship structure between the leader and its followers. On the whole fashion and imitation as socio-psychological phenomena are considered as passive methods. Moreover we decided to pay attention to examine influence of environment features on the phenomenon. It is extremely important to consider the phenomenon of Nechayevshchina systemically as combining parts into a whole. The article examines in details hidden, latent impacts which were not straight depended on Nechaev will but were determined with another factors that in the end had a great influence on development of the phenomenon.
Ключевые слова: исторический подход, социально-психологический подход, феномен нечаевщины, С. Г. Нечаев, социально-психологические феномены, историческая личность, пассивное воздействие.
Key words: historical approach, socio-psychological approach, the phenomenon of Nechayevshchina, S.G. Nechaev, socio-psychological phenomena, historical personality, passive influence.
Настоящая работа посвящена изучению личности С.Г. Нечаева, «Петра Верховенского» русской истории (аллюзия к роману Ф.М. Достоевского «Бесы», прототипом центрального героя в котором стал С.Г. Нечаев) и феномена «нечаевщины» через призму системного подхода в социально-психологических исследованиях.
Исследование носит междисциплинарный характер и базируется на двух основных подходах к изучению феномена: социально-психологическом и историческом [8]. Оба подхода отличаются принципом системности, что предполагает целостное, а не аналитическое рассмотрение исследуемого объекта - не разложение явления на составляющие, а концентрация внимания на общей структуре феномена.
Организация взаимоотношений является характерным примером такой системы. В ней есть «ядро», системообразующий компонент, который считается базовым, закладывающим основу. Таким «центром», безусловно, являлся С.Г. Нечаев, что нашло отражение в нарицательном наименовании рассматриваемого феномена. Влияние Сергея Геннадьевича на других членов организации было скрепляющим, сплачивающим. Мы считаем, что для подобной интеграции, объединения людей, С.Г. Нечаев использовал методы социально-психологического воздействия.
В данной статье будут рассмотрены пассивные способы воздействия, способствующие формированию организации. Выбор предмета исследования обусловлен собирательностью, прототипизацией феномена «нечавщины». Целесообразным представляется выявление механизмов становления подобных структур и поиск закономерностей в целях систематизации явлений, их экстраполирования и предвосхищения в современном мире. Данная статья позволит ответить на вопрос: «Какие именно факторы могли послужить образованию и становлению феномена «нечаевщины»?».
Для начала обратимся к определению пассивных способов воздействия. Г. М. Андреева пишет, что к этим способам относят два социально -психологических конструкта: моду и подражание, которые тесно связаны между собой [1].
Начнем с психологического механизма моды. Мода - пассивный способ воздействия на социум, где определенные групповые нормы впоследствии
входят в структуру общества и осваиваются путем подражания [1]. «Социальные конфликты, происходящие в обществе, объясняются противоречиями между возможными направлениями подражания» [1]. Следовательно, эти скрытые воздействия могут создавать течения, которые направляют людей, образуя определенные паттерны поведения, групповые нормы и ценности.
Ключевую роль в нечаевской истории сыграл злободневный революционный вопрос и тесно коррелирующая с ним народническая идеология, характеризующаяся стремлением части интеллигенции отдать должное народу. При анализе влияния данного опосредованного фактора на систему суггестивных отношений между С.Г. Нечаев и его последователями можно выделить два основных направления.
Во-первых, многие нечаевские адепты не были неофитами в народническом деле к моменту их инкорпорирования в «Народную расправу». Например, нечаевец А.К. Кузнецов еще до знакомства с С.Г. Нечаевым стремился глубоко изучить народ посредством теоретического знакомства с институтом земства, системой земледелия. Сотрудничество с «Народной расправой», по словам нечаевца, должно было способствовать непосредственному знакомству с изучаемым объектом и оказанию практической помощи народу, поскольку, согласно следственным показаниям нечаевца, он понимал революционный характер момента («дело идет к восстанию народа»), безусловно доверял заявлением С.Г. Нечаева «в громадности этого дела», не ставил под сомнение «его народность, его тесную связь с Западом» [7, с. 108].
Во-вторых, исключительно «плебейское происхождение» С.Г. Нечаева способствовало возникновению иррационального, подсознательного доверия к творцу «Народной расправы» и обеспечивало ему импонирование со стороны потенциальных адептов. В данном контексте знаменателен следующий пассаж из «Воспоминаний» народницы Веры Засулич: «В то время
слова "сын народа", "вышедший из народа" внушали совсем иначе, чем теперь; в таком человеке, в силу одного его происхождения, готовы были допустить, всевозможные свойства и качества, уже заранее относились к нему с некоторым почтением» и наделяли качествами пророка [3, с. 28]. Например, И.Г. Прыжов признавал, что «первой причиной его сближения с Нечаевым было то, что он вышел из народа» [цит. по: 2, с. 83]. Более того, нечаевец был восхищен и очарован необычайной энергией и эрудированностью С.Г. Нечаева, безусловно отождествлял их источник с плебейским происхождением героя: «Вот что вырабатывается из детей народа, раз они поставлены в сколь-нибудь благоприятные условия!» [цит. по: 3, с. 32].
Таким образом, тенденция сакрализации мифа о русском народе, которая только с 1870-х гг. постепенно начинает заменяться непосредственным знакомством интеллигенции с объектом преклонения и объективацией субъективных идеалов отдельных личностей, имела ключевое значение в зарождении и становлении феномена «нечаевщины». Заслуга С.Г. Нечаева состоит в том, что он целесообразно в контексте его стремлений воспользовался злободневными характеристиками и, в конечном счете, предстал перед современниками в качестве революционного эталона, или по словам М.А. Бакунина, «образчика этих молодых фанатиков, которые ни в чем не сомневаются, ничего не боятся <...>, верующих без Бога и героев без фраз» [цит. по: 5].
Следующим пассивным механизмом социально-психологического воздействия является подражание. Это понятие тесно коррелирует с модой и определяется как воспроизведение индивидом черт и образцов демонстрируемого поведения [1]. Важно подчеркнуть, что это неосознаваемый воздействующий способ, и, несмотря на биологическую целесообразность, может провоцировать девиантное, отклоняющееся поведение.
Оплотами сопротивления, контрсуггестии, которые имели различную степень и формы проявления в «нечаевской» истории, можно считать личности студента И.И. Иванова и народного историка И.Г. Прыжова. Диаметрально противоположная роль подражания принадлежала 19-летнему Н.Н. Николаеву, самому молодому подсудимому на судебном процессе по «делу нечаевцев» 1871 г.
Известно, что Николаев был незаконнорожденным мещанином, научившимся грамоте только в 14-летнем возрасте, служил надзирателем в доме для малолетних преступников. В.И. Засулич замечает, что «крестьянский мальчик» находился под сильным влиянием учителя сельской школы, В.Ф. Орлова, безгранично ему доверял и экстраполировал подобное восхищение, преданность на свое отношение к С.Г. Нечаеву как ближайшему товарищу Владимира Федоровича. Так, Вера Засулич вспоминала, что впоследствии «он стал буквальное его рабом, но рабом любящим, преданным, на которого можно положиться, как на себя самого» [3, с. 33]. Поэтому, в частности, для ивановского дуумвирата не составило труда заставить Н. Николаева выхлопотать на свое имя заграничный паспорт и передать его «герою», якобы совершившему побег из Петропавловской крепости и стремящемуся укрыться в пристанище «династии «Колокола» - Женеве. За свою верность чувству почтения к учителю Н. Николаев вынужден был претерпеть лишения и долгое время скитаться, пока не устроился в тульской мастерской. Отправной точкой новой вехи в отношениях с С.Г. Нечаевым можно считать 20 октября 1869 г., когда И.Г. Прыжов, исполняя поручение таинственного Центрального Комитета (впоследствии выяснилось, что диктаторские функции концентрировались исключительно в руках С.Г. Нечаева), доставил Н. Николаева в Москву в качестве крестьянского делегата.
Особая роль предназначалась Н.Н. Николаеву в контексте кульминационной главы в «нечаевской» истории - убийстве студента Петровской земледельческой академии И.И. Иванова, ставшем «насилием
внутри насилия» [цит. по: 5], жертвоприношением на алтарь революции. Так, если роль палача для бунтаря И.И. Иванова, неустанно противостоящему абсурдным директивам Комитета, принял непосредственно С.Г. Нечаев, то Н.Н. Николаеву предстояло сдерживать робкие попытки сопротивления со стороны И.Г. Прыжова. Иван Гаврилович вплоть до последних часов перед неизбежной катастрофой 21 ноября 1869 г. пытался склонить адептов Нечаева на свою сторону или уклониться от убийства, чтобы сохранить свою честь, свою совесть. Однако главный зачинщик деликта искореняет все пути к отступлению для нечаевца, поскольку сопротивление было равносильно подписанию смертного приговора. В качестве подтверждения данного тезиса В. Есипов приводит свидетельство Н. Николаева, который на предварительном следствии сообщает, что в случае отказа Прыжова от исполнения возложенных на него обязанностей в этом деле, он «должен был уговорить его», «хотя это поручение было очень неприятное» [цит. по: 2, с. 126]. Непосредственно в ходе судебное процесса И.Г. Прыжов подтверждает, что постоянно находился под опекой Н. Николаева с револьвером, принадлежащим С.Г. Нечаеву. Кроме того, согласно «Воспоминаниям» В.И. Засулич, которая предпринимает попытку детально реконструировать события ноябрьских дней, С.Г. Нечаев дал Н. Николаеву следующее поручение: «Прыжов ненадежен, ты за ним присматривай!» [3, с. 41].
Таким образом, подражание как пассивный фактор социально-психологического сыграл ключевую роль в «нечаевской истории» в общем и событии 21 ноября 1869 г. в частности. При этом целесообразно заключить, что «нечаевское движение окончилось убийством Иванова» [цит. по: 5, с. 255], поскольку «обреченной» (главное качество бунтующего человека, согласно «Катехизису революционера» [6]) оказалась вся московская организация.
Не только особенности индивидов благоприятствуют суггестии (внушению), но и влияние среды как социально -культурный контекст имеет
ключевое значение в данном аспекте. Это фильтр, через который воспринимается окружающий мир [1].
Характерной в данном контексте представляется история вовлечения П.Г. Успенского, приказчика книжного магазина А.А. Черкесова в Москве, в сотрудничество с творцом «Народной расправы». Так, Сергей Геннадьевич под конспиративным именем Павлова был представлен Петру Григорьевичу еще весной 1869 г., перед отъездом в Женеву. Уже в момент знакомства Успенский стал подозревать в представленном ему другим будущим нечаевцем Н. Николаевым лице легендарного Нечаева, якобы героически бежавшего из Петропавловской крепости. Тем не менее, только в сентябре 1869 г., когда герой вернулся из Женевы в Москву, П.Г. Успенскому было раскрыто истинное имя Сергея Геннадьевича. Стоит рассмотреть те мотивы, которые легли в основу активного сотрудничества Петра Григорьевича с «созидателем разрушения» (Ф.М. Лурье) и которые тесно коррелировали с влиянием социальных реалий.
Справедливо утверждать, что Петру Григорьевичу были чужды та жажда разрушения, тот иезуитизм, которые неразрывно сопутствуют «нечаевщине». Например, согласно воспоминаниям свояченицы В.И. Засулич, нечаевец был страстным читателем. Так, перед отправкой в Сибирь на каторгу А.И Успенская (Засулич) не принесла ему какую-то вновь вышедшую и желанную арестантом книгу. Тогда Петр Григорьевич написал удивительные и характерные, по замечанию Веры Засулич, слова: «Так я и уеду, не прочтя книги, а вдруг на том свете меня спросят: читал ли ты такую -то книгу? Что я на это скажу? Ведь я сгорю со стыда!» [3, с.26]. Вероятно, именно данная страсть к книгам и просвещению стала фактором активнейшего участия П.Г. Успенского в работе называемого по величине месячного взноса «Рублевого общества», имевшего характер кружка самообразования. Так, нечаецев впоследствии указывал на судебном процессе на радикальную разницу воззрений с Нечаевым: если подсудимый «предпочитал путь мирного
развития народа посредством распространения грамотности, через учреждения школ, ассоциаций и других подобных учреждений», то оппонент, напротив, «считал революцию единственным исходом из настоящего положения» [3, с. 27]. Тем не менее, при не последней роли женевского эмигранта «апрельский погром [1869 г.] расстроил это кружок ["Рублевое общество"], выхватил из него несколько членов» [3, с. 24], в том числе лидера Ф.В. Волховского. Данный фактор, безусловно, стал серьезным ударом для Петра Григорьевича, способствующим росту его радикальности и отчаяния.
Окончательным мотивом, спровоцировавшим П.Г. Успенского перейти к решительным мерам и отказаться от созидательной деятельности, стал апофеоз вседозволенности правительственной реакционной политики: арест его 14-летней сестры. Так, нечаевец вспоминал, что его сестра, Надежда Успенская была безосновательно, в нарушение всех законов арестована и помещена в Арбатскую часть, откуда позднее переведена в Литовский замок, где ее продержали девять месяцев. «Последней побудительной причиной было письмо, полученное от арестованной сестры» [2, с. 76], которое имело достаточно странный характер, что послужило поводом для П.Г. Успенского думать о сумасшествии адресанта. Таким образом, по следственным признаниям нечаевца, «последние административные меры сделали то, что ни я, никто из моих знакомых не могли считать себя безопасными и гарантированными от преследований, хотя и не считали себя заслуживающими такого преследования» [цит. по: 3, с.27]. Более того, впоследствии главным аргументом в пользу убийства студента И.И. Иванова, по мнению П.Г. Успенского, стало то, что потенциальным результатом предательства студента была бы «страшная трата сил человеческих, ибо они знали, что значит быть арестованным по малейшему поводу» [цит. по: 2, с. 118].
В нечаевском триумфе привлечения иных студенческих лидеров Петровской земледельческой академии в «Народную расправу» ключевую
роль сыграла крайность правительственной реакции и, как закономерное следствие, бесперспективность мирной, созидательной деятельности в виде земледельческой ассоциации и народного образования, адептами которой первоначально являлись петровцы. Так, Вера Ивановна Засулич отмечает ту легкость, с которой Нечаев парировал студентам и отвечал смехом на необоснованные их планы использования легальных возможностей в интересах народа, которые, по его заверениям, тотчас были бы интерпретированы правительством как политическое преступление. В конечном счете, по следственному признанию А.К. Кузнецова, петровцы «должны были согласиться, что он говорил справедливо» [7] и присоединиться к работе московской организации «Народная расправа».
Таким образом, следует признать справедливыми слова дяди В. Фигнер, П.Х. Куприянова, высказанные по поводу «нечаевского дела»: «Каждый народ достоин своего правительства» [9]. Так, перегибы реакционной правительственной политики сыграли не последнюю роль в распространении радикальных настроений, которые, в частности, мутировали в такое исключительное явление, как «нечаевщина». Кроме того, не последнее значение сыграл каракозовский выстрел в Александра II, который, по признанию нечаевца А.К. Кузнецова, «сделал большую брешь в психологии» радикальной молодежи [4]. Этот беспрецедентный инцидент способствовал выработке практических революционеров, перерождению политического миросозерцания, оказался толчком, «способствовавшим косвенным путем созданию нечаевского общества» [4].
Резюмируя вышеизложенные аргументы, необходимо подчеркнуть, что косвенный, латентный характер пассивных способов воздействия не умаляет значение их влияния. С.Г. Нечаев не смог бы объединить своих последователей так, как он это сделал, без содействия факторов среды.
В заключение можно сделать следующий вывод. Мода и подражание как интернальные факторы, направленные на внутренние особенности
суггерендов, и экстернальный фактор внешней среды послужили образованию и становлению феномена «нечаевщины».
В дальнейшем представляется возможным изучение уже активных способов воздействия как методов сплочения сложившейся организации. Так, целесообразным является рассмотрения феномена «нечаевщины» с точки зрения его образующего компонента, лидера и ключевой исторической личности в данном контексте - С. Г. Нечаева.
Библиографический список:
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. М.: Аспект Пресс, 2017. 363 с.
2. Есипов В.В. Нечаевская катастрофа // Есипов В.В. Житие великого грешника. М.: НП ИД «Русская панорама», 2011. С. 6-239.
3. Засулич В.И. Нечаевское дело // Засулич В.И. Воспоминания. «Public Domain», 1919. С. 13-45.
4. Кузнецов А.К. Автобиография [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.biografija.ru/biography/kuznecov-aleksej-kirillovich.htm (дата обращения: 07.05.2020)
5. Лурье Ф.М. Нечаев. Созидатель разрушения. М.: Молодая гвардия, 2001. 433 с.
6. Нечаев С.Г. Катехизис революционера [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/nechaev.htm (дата обращения:: 04.04.2020).
7. Показания и заявления привлеченных к делу // Козьмин Б.П. Нечаев и нечаевцы. Сборник материалов. Л., М.: Гос. соц. -экономич. изд-во, 1931. С. 57-144.
8. Самохвалов, Д. С. Историческая психология: основы историко-психологических исследований: пособие. Минск: БГУ, 2016. 95 с.
9. Фигнер В.Н. Нечаев // В. Фигнер Запечатленный труд [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.rU/f/figner_w_n/text_0080.shtml (дата обращения: 06.05.2020).
УДК 930
Cherepanina Nadezhda Nikolaevna
Student
Belgorod State National Research University
METRIC BOOKS AS THE BASIS FOR COMPILING PEDIGREES.
STUDY OF THE FAMILY HISTORY
Abstract: The article is devoted to the study of metric books, their structure and meaning. Metric books have always been the most informative database, and the importance of metrics in compiling pedigrees cannot be overestimated. The main task of the research is to prove the value of genealogy and the availability of its study in metric books. The purpose of the study is to analyze the information content and significance of metric books in the compilation of pedigrees. The article is also supported by research, namely the presented pedigree based on metric books. A detailed study of the structure is also traced, from the first metric records (diptychs) to the legalized metrics of Peter I.
Keywords: metric books, genealogy, the Holy Synod, the clergy, chronology, genealogical
tree.
Introduction. To begin with, it is important to determine what metric books are and when they appeared, in what form they were kept and what information they included. Metric books are records of births, marriages, and deaths. The Dating of these documents in Russia refers to the XVIII - early XX centuries. For the Orthodox population, these books were kept by the clergy of the Orthodox Church. The first documents of the tsarist government on the maintenance of metric books was the decree of Peter I of April 14, 1702. "About giving in the Patriarchal Spiritual





 78
78