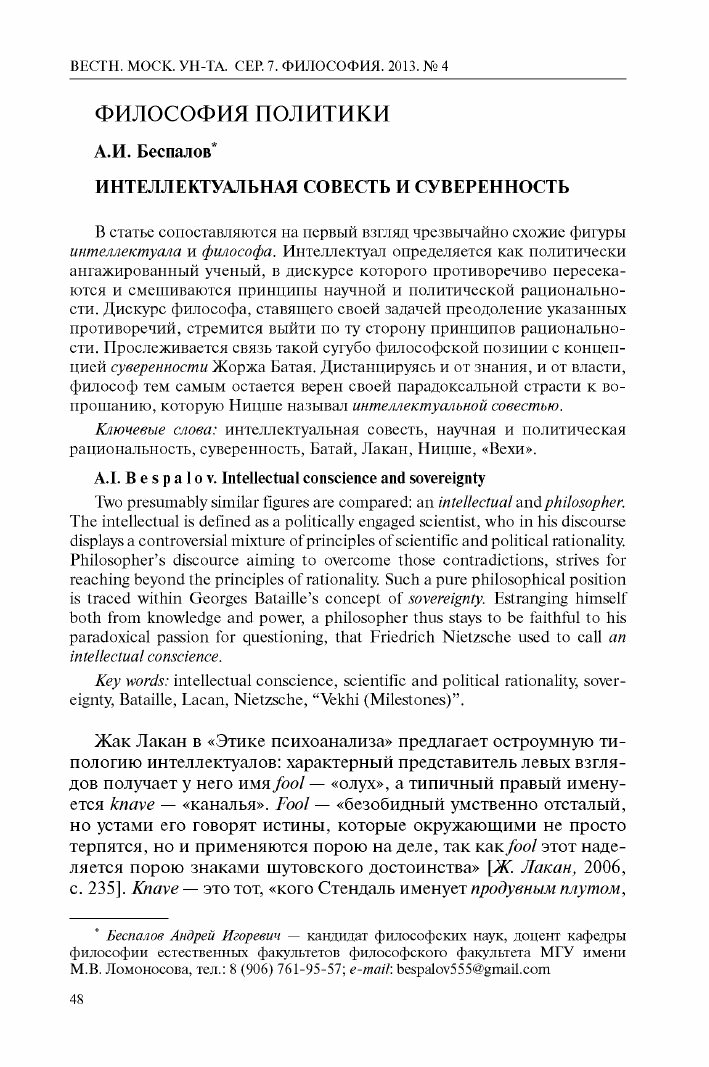ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2013. № 4
ФИЛОСОФИЯ политики
А.И. Беспалов*
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ И СУВЕРЕННОСТЬ
В статье сопоставляются на первый взгляд чрезвычайно схожие фигуры интеллектуала и философа. Интеллектуал определяется как политически ангажированный ученый, в дискурсе которого противоречиво пересекаются и смешиваются принципы научной и политической рациональности. Дискурс философа, ставящего своей задачей преодоление указанных противоречий, стремится выйти по ту сторону принципов рациональности. Прослеживается связь такой сугубо философской позиции с концепцией суверенности Жоржа Батая. Дистанцируясь и от знания, и от власти, философ тем самым остается верен своей парадоксальной страсти к во-прошанию, которую Ницше называл интеллектуальной совестью.
Ключевые слова: интеллектуальная совесть, научная и политическая рациональность, суверенность, Батай, Лакан, Ницше, «Вехи».
A.I. В е s р а 1 о v. Intellectual conscience and sovereignty
Two presumably similar figures are compared: an intellectual and philosopher. The intellectual is defined as a politically engaged scientist, who in his discourse displays a controversial mixture of principles of scientific and political rationality. Philosopher's discource aiming to overcome those contradictions, strives for reaching beyond the principles of rationality. Such a pure philosophical position is traced within Georges Bataille's concept of sovereignty. Estranging himself both from knowledge and power, a philosopher thus stays to be faithful to his paradoxical passion for questioning, that Friedrich Nietzsche used to call an intellectual conscience.
Key words: intellectual conscience, scientific and political rationality, sovereignty, Bataille, Lacan, Nietzsche, "Vekhi (Milestones)".
Жак Лакан в «Этике психоанализа» предлагает остроумную типологию интеллектуалов: характерный представитель левых взглядов получает у него имя fool — «олух», а типичный правый именуется knave — «каналья». Fool — «безобидный умственно отсталый, но устами его говорят истины, которые окружающими не просто терпятся, но и применяются порою на деле, так как fool этот наделяется порою знаками шутовского достоинства» [Ж. Лакан, 2006, с. 235]. Knave — это тот, «кого Стендаль именует продувным плутом,
Беспалов Андрей Игоревич — кандидат философских наук, доцент кафедры философии естественных факультетов философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, тел.: 8 (906) 761-95-57; e-mail', bespalov555@gmail.com
то есть, собственно говоря, господин Всякий-и-Каждый, только, разве что, посмелее других. [Это персонаж], который не останавливается перед последствиями так называемого реального взгляда на вещи» [там же, с. 236]. В дополнение Лакан указывает, что канальи, сбившиеся в стадо, неизбежно превращаются в стадо олухов, а коллективная foolery оборачивается групповым канальством. Подобные метаморфозы проливают свет на позиции fool и knave как таковых.
Едва только дискурс простеца обретает сколько-нибудь широкое признание и приближается к статусу господствующей или даже официальной идеологии, его голос, поддержанный многими, обретает силу. В результате становится возможно со спокойной наглостью провозглашать героические истины, не неся за это ни малейшей личной ответственности [см. там же], и, следует добавить, извлекать из этого свою частную политическую и экономическую выгоду. С другой стороны, когда проходимцы сбиваются в стадо, т.е. когда так называемый «реальный взгляд на вещи» получает официальное признание и приверженность ему открыто провозглашается со всех трибун, knave оказывается в дураках, поскольку отпадает надобность в человеке, способном высказать то, в чем ранее не решались признаваться, — с этого момента правые лидеры более не нуждаются в его услугах.
Fool и knave не могут быть поняты просто как выразители чаяний стада и аристократии в ницшеанском смысле. Правые идеи подчас отвечают ожиданиям и нравственным ориентирам масс не в меньшей степени, чем левые, и было бы наивно всякий раз представлять политический успех правых следствием удачного оболванивания народа. Решающее значение имеет то, что foolery и knavery в данном случае — это альтернативные характеристики именно интеллектуала, т.е. того, чей голос в той или иной степени является голосом ученого. В отличие от чистого политического деятеля или просто «человека с улицы», интеллектуал, как предполагается, выражает не только определенное желание, потребность, интерес, но и в первую очередь некое знание.
Эта частичная экстериорность позиции интеллектуала в социально-политических баталиях ставит его в положение странного человека. Прежде чем показать себя олухом или канальей, простецом или проходимцем, он выступает в качестве «умника». Не берусь судить, насколько иронично европеец может называть себя «интеллектуалом»; по крайней мере в самоименовании отече-ственнных «интеллектуалов» или во все менее популярном сегодня слове «интеллигенция» иронию обнаружить достаточно трудно. Однако, примерив на себя звание «умник», русскоязычный «интеллектуал», или «интеллигент», вполне может осознать странности
собственной фигуры. Умник — субъект предположительно знающий, но именно в силу своего знания ошибающийся и вызывающий моральные подозрения. В установках лакановских fool и knave содержится некий изъян, который, с одной стороны, предстает как ошибка — недостаток познавательный, а с другой — как своего рода грех или предательство — недостаток нравственный.
Изначально foolery (глупость) простеца заключается в предпочтении всеобщих истин истинам частным, «политическим». Политические истины суть те, что исходят из принципа нередуцируемой множественности точек зрения, из понимания того, что у господина и раба нет и не может быть ничего общего. Этот познавательный изъян позиции олуха перерастает в изъян нравственный, когда простецы, сбившись в стадо, обретают политическую силу и начинают в частном порядке извлекать дивиденды, соревнуясь в героической риторике и апелляциях к общему благу.
Напротив, knavery (хитрость) проходимца изначально состоит в пренебрежении всеобщими истинами, выступающими иногда под именем «научных», а чаще под именем «нравственных» принципов. Проходимец придерживается истин сугубо частных, тех, которые нельзя разделить с другими. Но когда эти частные истины, оставаясь таковыми по сути, приобретают статус всеобщих, оказывается более невозможным ни извлекать из них частную выгоду, ни, как выясняется в конечном итоге, поставить их на службу всеобщим интересам. Таким образом, изначально содержащийся в позиции knave нравственный изъян перерастает в изъян познавательный, и проходимец оказывается обманут в политике.
Можно сказать, что, сбиваясь в стадо, fool идет от невежества в отношении частных истин к пренебрежению истинами всеобщими, a knave — от пренебрежения всеобщими истинами к невежеству в отношении истин частных. Выходит, политически ангажированный ученый — «интеллектуал», или «умник», — может не утратить нравственность лишь ценой политических заблуждений, либо же сохранить политическую прозорливость ценой безнравственности.
Эта ставшая уже едва ли не банальной дилемма нуждается в серьезном уточнении. В ней настораживает идеологическое по своей сути отождествление нравственного со всеобщим, а политически истинного с частным. Политическая истина действительно исходит из принципа, что у господина и раба нет ничего общего, однако есть ведь и «просвещенный» взгляд ученого на политику, который и в первом, и во втором видит человека, и именно это общее является для него истинным, в том числе и в политике, при том, что ни господин, ни раб в глубине души людьми друг друга не признают. В свою очередь, равное отношение ко всем нравственно
с точки зрения раба, но именно в этом — в уравнивании неравных — заключаются «скотство» и безнравственность с точки зрения господина. Таким образом, ставками в политической игре интеллектуалов являются не истина и добродетель, а сами принципы рациональности и нравственности, на основании которых выносятся суждения и даются моральные оценки.
Политически ангажированный ученый, выступающий в то же время от лица всеобщего, может сохранить свой тип рациональности ценой ошибок в политике и безнравственности с точки зрения господина — в этом заключается его foolery. С другой стороны, он может постичь истину политики ценой отказа от своего типа рациональности и утраты способности к нравственному выбору, ибо принятие аристократического либо стадного способа оценки в этом случае уже не предмет свободного выбора, а действие по велению страстей, пробуждаемых актуальными на данный момент мифами. В этой неспособности к нравственному выбору (Лакан отмечает, что knave готов, когда это нужно, сознаться, что он каналья, не будучи при этом циником [там же, с. 235—236]), сочетающейся с проницательностью в отношении подлинных человеческих мотивов в политике, и состоит knavery интеллектуала. В обоих случаях он выступает как в высшей степени сомнительная фигура, чья репутация либо уже запятнана в глазах всякого «честного человека», либо неминуемо станет таковой, едва только будет раскрыта нечистая душевная подоплека его высоколобых и вместе с тем страстных речей.
Для отечественной мысли на протяжении вот уже ста лет общепризнанной классикой жанра саморазоблачительного интеллигентского памфлета остается сборник «Вехи». В нем наряду с бичеванием таких интеллигентских «грехов», как «безрелигиозность», «антигосударственное отщепенство» и «космополитизм», присутствует еще один план критики, несводимый к указанию на сугубо доктринальные и идеологические просчеты. Данный план намечается уже в предисловии к «Вехам», где М. Гершензон указывает, что основным намерением авторов сборника является «критика духовных основ интеллигенции», а их общая платформа — «признание теоретического и практического перевенства духовной жизни над внешними формами общежития» [Вехи, 1991, с. 23]. Это заявление, казалось бы, не вполне согласуется с содержанием статьи «В защиту права», в которой Б.А. Кистяковский в качестве главной задачи указывает на необходимость признания ценности права как условия обеспечения «внешней, относительной, обусловленной общественной средой свободы» и добавляет, что «внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней, и последняя есть самая луч-
шая школа для первой» [там же, с. 110]. Но такое отклонение от заявленной общей платформы указывает лишь на то, что слова о «примате духовной жизни над внешними формами общежития» в предисловии Гершензона не играют роль догматического социально-философского постулата. Они лишь задают вектор, по которому развивалась мысль веховцев: от содержательной критики революционной идеологии к критике ее формальных оснований, если угодно, трансцендентальных условий возможности этого содержания, «духовных основ интеллигенции».
Не случаен поэтому неоднократно осуществляемый С.Н. Булгаковым в статье «Героизм и подвижничество» шаг от негативной оценки интеллигентского атеизма, отщепенства и космополитизма к необходимости не просто пересмотреть идеологию в свете социально-политических итогов революции 1905 г., но именно покаяться, т.е. «пересмотреть, передумать и осудить свою прежнюю душевную жизнь в ее глубинах и изгибах, чтобы возродиться к новой жизни» [там же, с. 74]. Глубинные язвы интеллигенции, как и следовало ожидать, не менее ужасны, чем ее идеологические просчеты. В их числе A.C. Изгоев обнаруживает даже «стремление к смерти», ставшее в среде студенческой молодежи «критерием левости». Но все же тон критике духовных основ интеллигенции задает открывающая «Вехи» статья H.A. Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда». Проследив удивительные метаморфозы, которые претерпевают западные философские концепции в сознании русского образованного слоя, он заключает, что «основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься <...> долой истину, если она стоит на пути заветного клича "долой самодержавие"» [там же, с. 30]. Для более емкого выражения такой причудливой установки, исходя из которой предметом морального осуждения становится истина в ее отношении к политике, C.J1. Франк, в свою очередь, обращается к терминологии Ницше и называет характерной особенностью русского интеллигентского мышления «неразвитость интеллектуальной совести» [там же, с. 157].
Сходных упреков в свой адрес не избежали и сами веховцы. В ответной статье из сборника «Интеллигенция в России» П.Н. Милюков начинает с того, что вполне определенно указывает на их политическую ангажированность: «Проповедуя религиозность, государственность и народность, авторы "Вех" тем самым еще не усвояют себе всецело начал самодержавия, православия и великорусского патриотизма. Однако точки соприкосновения есть — и довольно многочисленные» [там же, с. 315]. Заканчивает же он тем, что выписывает характерный рецепт: «"Научный" дух в поли-
тике и в гражданском воспитании — вот то единственное действительное лекарство, которое можно противопоставить провозглашаемым с такой помпой и апломбом, закутанным в такие яркие цветы литературного пафоса панацеям авторов "Вех"» [там же, с. 377].
Итак, то, что на поверку всегда оказывается нечистым в случае интеллектуала-умника, будь он простецом или проходимцем, одиноким или принадлежащим к какой-либо партии, то, что неминуемо оказывается здесь запятнанным, — это его интеллектуальная совесть, даже если сам интеллектуал способен изобличить нечистую интеллектуальную совесть в других.
Интеллектуальную совесть не следует путать с неким «голосом ученого» в сознании интеллектуала, напоминающим о долге поиска истины. Познание может стать долгом для того, кто сместился с позиции чистого ученого, ибо для последнего истина есть не должное, а желаемое. Поэтому, когда Бердяев провозглашает, что «сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее» [там же, с. 42], он высказывается скорее от лица тех, в ком ученый оказался подавлен, тех, чье желание истины было подвергнуто вытеснению. То, что Ницше называл интеллектуальной совестью, не есть призыв к заплутавшему интеллектуалу вернуться в свои университеты. Ее голос твердит нечто иное: «Стоять среди той re гит concordia discors [сочетание противоречивых вещей], среди всей чудесной неопределенности и многосмысленности существования и не вопрошать, не трепетать от страсти и удовольствия самого во-прошания, даже не испытывать ненависти к вопрошающему, а лишь вяло, пожалуй, над ним потешаться — вот, что ощущаю я постыдным, и именно этого ощущения ищу я прежде всего в каждом человеке» [Ф. Ницше, 2003, аф. 2].
Словом, интеллектуальная совесть вменяет в долг не знание, а вопрошание. Ее призыв, пожалуй, не достигает тех, кому удается замкнуться в рамках «чистой науки» или «реальной политики», утратив восприимчивость к иному Но именно для интеллектуала она звучит как голос вытесненной страсти к вопрошанию, которая однажды побудила его обратить свой взор за пределы знания и ступить на поле властных отношений, притягательное своим отличием. Вытесненным в фигурах fool и knave оказывается не влечение к истине, — ведь для каждого из них нечто является истинным, будь оно научного или политического происхождения, — а страсть к вопрошанию. Первоначально она вывела их за рамки науки и затем была подвергнута замещению страстями сугубо политическими. Опять же не стоит поспешно принимать это вопрошание за единственный способ применения интеллекта к его иному Тем самым будет в очередной раз заявлена идеологическая позиция, объявля-
ющая политическое иррациональным, в то время как властные отношения определяются иным принципом рациональности, нежели отношения познавательные: в первом случае действует принцип иерархии и ответственности, а во втором — равенства и соответствия. Вопрошание, вменяемое в обязанность интеллектуалу, — это не отнесение разума к иррациональному, а способ отнесения знания к непознаваемому. Это не вопрошание в науке, где знание соотносится с непознанным, а отнесение знания к власти как тому, что не может быть познано, ибо мыслится из иного принципа рациональности. Таким образом, интеллектуальная совесть предписывает как должное различение научного и политического, знания и власти.
«Интеллектуалом», или «умником», следовательно, называют того, кто имел, но упустил шанс ясно помыслить данное различение, поддавшись соблазнительной игре взаимоотражений двух принципов рациональности. Fool начинает попыткой ассимилировать политику с научным принципом равенства и заканчивает спекуляцией лозунгами равенства в партийных интересах; knave начинает с игры на легитимацию права сильного и, добившись равного признания этого права всеми, моментально обесценивает свои услуги в глазах господина, что означает провал его стратегии в долгосрочном плане. Интеллектуалу как образу запутавшегося человека симметрична фигура карьериста в науке — персонажа, реализующего властные потребности в сфере знания. В долгосрочном плане он также терпит полное поражение как лицо, не внесшее подлинного вклада в науку и в силу этого утрачивающее авторитет, который всегда выступает для него предметом желания (в высшей степени здесь характерная фигура — академик Рядно в романе В. Дудинцева «Белые одежды»).
Где-то на горизонте наших чаяний присутствует и третья фигура, избавленная от познавательных и нравственных изъянов, бросающих тень на интеллектуальную совесть умников и карьеристов. Дело, конечно, не в том, чтобы в очередной раз наградить ее изрядно обветшавшим именем философа. За долгие тысячелетия хождения это имя примеряли на себя многие. Сейчас им зачастую прикрываются, когда начинают политиканствовать, будучи не в силах ни приобрести реальную власть, ни осуществлять ее отправление, либо когда испытывают потребность в академических званиях и почестях, не находя в себе достаточной склонности к позитивным наукам. Гораздо перспективнее было бы попытаться подробнее охарактеризовать ту позицию, которую призывает занять интеллектуальная совесть. Пока ясна лишь ее двусмысленность: это позиция ни ученого, ни политика, но того, кто различает политику и науку, кто не желает ни знания, ни власти, но чье вопрошание 54
парадоксальным образом открывает ему доступ к мышлению этих двух инстанций как таковых.
В XX в. одной из наиболее решительных попыток очертить искомую область явилась концепция суверенности Жоржа Батая, который намечает границы суверенности, неуклонно проводя размежевание с тремя областями — знанием, властью и вещью, или вещностью как таковой.
Местопребывание суверенности представляет собой «чудесное царство незнания», в котором мысль может оказаться, осуществив «попятное движение по путям познания — чтобы уйти от него, а не чтобы добыть из него результат, которого ожидают другие» [Ж. Батай, 2006, с. 322]. Суверенность, в отличие от познания, вообще не имеет «путей», она лишена какой бы то ни было методологии и не является операцией. Все это говорится о суверенности постольку, поскольку ее временем выступает мгновение, которое, в противоположность обыденному настоящему, никогда не мыслится в функции прошлого или будущего, не стоит с ними в какой бы то ни было однозначной и гарантированной связи. Поэтому Батай пишет, что «мгновение всегда вне знания, по ту или другую сторону его. Мы познаем постоянные связи во времени, константы, мы не знаем абсолютно ничего такого, что не сообразно операции, этому рабскому способу бытия, который подчинен будущему и его развертыванию во времени» [там же, с. 318]. Суверенность выпадает из времени, которое предстает для познания в виде направленной последовательности моментов, где каждый предшествующий момент служит ступенью или опорой для будущего. В этом смысле размежевание между знанием и суверенностью обусловлено ее вопиющей бесполезностью, что выражается в основном «принципе суверенного бытия и мышления»: «Мысль, подчиненная какому-либо ожидаемому результату, полностью порабощена и перестает быть чем-то суверенным; суверенно только не-знание» [там же, с. 323].
Гордая самостоятельность и заведомое превосходство суверенности над всем иным позволяют Батаю отождествить ее с чистой субъективностью. Суверенность непредставима, как может предстоять объект, напротив, всякое представимое ставится перед ней. «Суверенность объективна только из-за нашей неловкости, когда мы можем достигнуть субъекта, лишь полагая какой-либо объект, который затем отрицаем — отрицаем или разрушаем» [там же, с. 342].
Соединяя знание, объективность и рабские операции с их упорным трудом на одной стороне, а на другой — суверенность, субъективность и превосходство, Батай развивает мотивы ницшеанской критики науки. Разница между ними лишь в том, что Ницше ищет иной, аристократический, род познания, создавая проект «Весе-
лой науки» и живописуя образы философов будущего как творцов ценностей, а Батай попросту характеризует иное классически понимаемого знания как не-знание вообще. Однако так же, как и у Ницше, его критика является политической: субъективность не есть знание, поскольку она не есть рабство. Собственно, именно такое определение рассматриваемого предмета фигурирует на первой странице «Суверенности»: «В общем и целом речь идет о том, что в человеческой жизни противоположно рабству или подчинению» [там же, с. 313].
Батай, казалось бы, прочно связывает суверенность с фигурой господина: «Суверенностью обладают все люди, которые имеют и никогда не теряли значимость, приписываемую богам и "иерархам"» [там же]. Но затем он предпринимает значительные усилия, чтобы разорвать эту соблазнительную своей простотой концептуальную связь и осуществляет такое же радикальное отделение суверенности от власти, какое ранее было проведено по отношению к знанию. Принципиально, что «власть так же относится к суверенности, как "потенциальная" энергия к возможной вспышке света» [там же, с. 429]. Для Батая утверждение господства выступает средством достижения суверенности. Значит, как и всякое посредствующее звено, власть одновременно и служит достижению цели, и выступает препятствием на пути к ней. Сувереннное положение монарха, его великолепие, неотделимо от принадлежащей ему верховной власти, его позиции правителя, которая предполагает признание не только со стороны масс, но и со стороны знати, т.е. тех, кто и сам претендует на чужое признание, и кого должен признавать монарх, дабы, в свою очередь, быть признанным ими.
Втянутый в игру взаимных признаний, господин с его суверенным достоинством опутывается двусмысленной сетью запретов. Она подобна той, что служит для определения и градации человеческого достоинства, налагая ограничения на способы удовлетворения животных потребностей. Двусмысленность ограничений связана здесь с тем, что, с одной стороны, их соблюдение символизирует преодоление человеком своего животного начала в качестве природной данности, не ограниченной никакими правилами, с другой же стороны, эти ограничения сами выступают как иная, социальная, данность, предельный отказ от которой был бы самоубийственным. «Человеческий мир представляет собой лишь гибрид нарушений и запретов» [там же, с. 420], и некая подвижная шкала соблюдения соответствующих ограничений всякий раз отмеряет ту степень человеческого достинства, которая будет признана за индивидом. Аналогично и фигура господина олицетворяет собой нечто большее, чем «просто человек»; цари и жрецы возвышаются над простолюдинами подобно тому, как человек превос-
ходит животное, однако именно в силу этого превосходства на них налагаются еще более строгие ограничения. «Но если человеческое достоинство зависит от соблюдения запретов, то, в конечном итоге, не противоречит ли оно достоинству сакрального, достоинству трансгрессии и ярости, которые олицетворяет собой суверен?» [там же, с. 419].
Словом, положение господина обеспечивает все более ощутимую возможность обретения суверенного достоинства, но по мере того, как носитель верховной власти втягивается в игру взаимных признаний между ним самим, народом и знатью, задача сохранения этого достоинства парадоксальным образом приводит его к способу существования, противоположному суверенности. Он вынужден подчиняться запретам еще более строгим, чем те, что установлены для его подданных.
Еще б лыпая опасность, таящаяся в игре взаимных признаний, связана с объективацией, которой она неминуемо подвергает позицию господина и тем самым отчуждает его суверенность. Хотя Батай и не использует подобных выражений, полагаю, все же можно сказать, что в его понимании власть, основанная на признании господина его подданными, представляет собой род символического капитала. Отсюда стремление к власти аналогично стремлению к накоплению. Подобно тому как промышленный капитал накапливается в форме овеществленного труда, так и логика накопления символического капитала подталкивает к утверждению власти в форме власти над вещами, ее смысловой редукции к праву собственности. В этом Батай усматривает политический аспект перехода от феодального строя к капиталистическому В буржуазном обществе суверенное достоинство начинает проистекать из степени господства человека над вещами, теперь положение зависит от богатства, а не богатство от положения. «Накопление приводит к тому, что буржуазное, равно как и коммунистическое, общество является обществом вещей, а не обществом субъекта, в отличие от феодального общества. Вещь, которая служит долго, значит здесь больше, чем субъект» [там же, с. 423]. В результате в буржуазном обществе, равно как и в обществе «реального социализма», становится возможным даже провозглашать упразднение господства одних людей над другими. В действительности же происходит лишь переход от «внеэкономических» форм принуждения к «экономическим», будь то необходимость работать по найму для обеспечения социально приемлемого уровня потребления или необходимость прилагать все усилия для строительства материальной базы светлого коммунистического будущего. В обоих случаях для Батая решающее значение имеет то, что накопление власти оборачивается подчинением вещам. Это равносильно тому, чтобы
отказываться от света, экономя электроэнергию; всякое накопление власти увеличивает потенцию суверенности и вместе с тем отсрочивает ее осуществление. Стремление к зримому, прочному и постоянно растущему господству требует объективации и даже «овеществления» властных отношений, и на этом пути, как резюмирует Батай, «из объективности власти и только из нее одной вытекает отмена суверенности» [там же, с. 423].
Соответственно подлинная суверенность как отрицание своего отрицания предполагает растрату власти, она есть не служащее никакой иной внешней цели расходование того, что делает ее возможной. «Все происходит так, словно отрицание суверенности в каком-то смысле идентично суверенности» [там же]. Будучи чистой субъективностью, суверенность и не может выглядеть иначе, чем отрицание объективности во всех ее формах, в том числе и тогда, когда речь заходит об объективации ее самой. Она не может продемонстрировать ничего, кроме незначимости вещей и запретов, ее действие предстает как трансгрессия и бесцельная трата — своего рода потлач, разыгрываемый перед лицом голодающих. «Суверенность всегда по собственной воле находилась и находится в буре» [там же, с. 421], — пишет Батай, называя бурей удел того, кто, будучи обусловлен некоторыми предпосылками, несет в себе и начало их отрицания. Из бури действительно не следует пытаться сделать вещь, поэтому суверенна лишь та мысль, которая «рассматривает возможность суверенных моментов, которые не постигались бы как вещи и которые отличались бы от архаической суверенности», объективируемой в игре признаний и через это втягиваемой в зависимость от вещей.
Размежеванием с миром вещей можно завершить круг, очерчивающий суверенность, и вслед за Батаем определить ее как познание Ничто, или полное не-знание. Батай предлагает длинный список того, что наполняет суверенные моменты, в которые мысль достигает не-знания: «Смех, слезы, поэзия, трагедия и комедия — и вообще все формы искусства, содержащие в себе трагические, комические или поэтические аспекты — игру, гнев, упоение, экстаз, танец, музыку, бой, ужас похорон, очарование детства, сакральное — самым животрепещущим видом которого яляется жертвоприношение, — божественное и дьявольское, эротику (индивидуальную или нет, духовную или чувственную, порочную, рассудочную, яростную или утонченную), красоту (обычно связанную со всеми уже перечисленными формами, противоположность которой обладает столь же интенсивной силой), преступление, жестокость, испуг, отвращение» [там же, с. 337—338], — таковы «формы излияний», в которых могла бы являться суверенность, «если бы мы тайно достигли ее». Какое же отношение имеют они к вопрошанию, с которым выше была связана интеллектуальная совесть?
Если позволить себе вести речь об интеллектуальной совести самого автора «Суверенности», то, пожалуй, стоит согласиться с известной интерпретацией Жака Деррида, согласно которой философствование Батая представляет собой попытку мыслить после Гегеля. Это означает: приняв всерьез претензию на исчерпание философского дискурса, «вытерпев гегелевскую очевидность», все же пытаться «вписать в лексику и синтаксис некоего, то есть нашего, языка, бывшего также и языком философии, то, что, тем не менее, выходит за пределы понятийных оппозиций, управляемых этой [гегелевской] общей логикой» [Ж. Деррида, 2000, с. 402]. Батай писал о суверенности как цели, некоем пункте назначения своей мысли, в котором она смогла бы сбросить с себя чары гегелевского абсолютного знания. Суверенность означает позицию, из которой может быть развернута так называемая «всеобщая экономия», соотносящая объекты мысли с суверенными моментами. В отличие от «экономии ограниченной», каковой является «Феноменология духа», она не только рассматривала бы смысл одних объектов в соотношении с другими, но и «в конечном счете, в соотношении с потерей смысла» [там же, с. 426]. Искомое Батаем суверенное пробуждение от «гегелевской очевидности» есть выход в незахва-тываемую абсолютным знанием область, из которой на него можно было бы бросить «взгляд со стороны». Понятно, что этой суверенной территорией может быть лишь «чудесное царство не-знания». Полное не-знание для Батая — это «настоящий ответ на то состояние неизвестности, которое порождает, по ту сторону пользы, поиск знания» [Ж. Батай, 2006, с. 317, прим.]. Хохот, рыдания, гримасы ужаса или божественного озарения суть то, что следует непосредственно за вопросом, не имеющим готового ответа в привычных координатах рациональности, вообще ответа в привычном его понимании. Смех, слезы, истерический срыв или фраза, изреченная в слепом порыве вдохновения, мучительное «не знаю» или гробовое молчание суть формы «ответа» на парадокс, с которым мы сталкиваемся в тот момент, когда мысль сходит с наезженных путей ортодоксии и обнаруживает множественность не сводимых друг к другу принципов рациональности.
Каждое из перечисленных Батаем «излияний» являет собой опыт суверенности как цели, конечного пункта суверенной мысли, в то время как началом ее выступает парадокс. При этом начало и конец здесь располагаются на одной окружности, они совпадают. Невозможно разъять мгновение, в котором некая истина предстает в трагическом или комическом свете и ставится под вопрос. Уметь высмеять или оплакать истину — так же как усомниться в том, что комичное смешно, а трагичное стоит страха и сострадания, — это некоторым образом одна и та же способность. В фило-
софе она дополняется умением производить эффекты разрешения парадоксов, а затем вновь высмеивать, оплакивать и подвергать сомнению собственные решения. Это не повторение доксы, а повторение парадокса — способность, пожалуй, сверхчеловеческая, однако именно этого и требует интеллектуальная совесть.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М., 2006.
Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909—1910. М., 1991.
Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000.
Лакан Ж. Этика психоанализа: Семинары. Кн. VII. М., 2006.
Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Избр. произв. / Сост. К. Свасьян. СПб., 2003.





 CC BY
CC BY 47
47