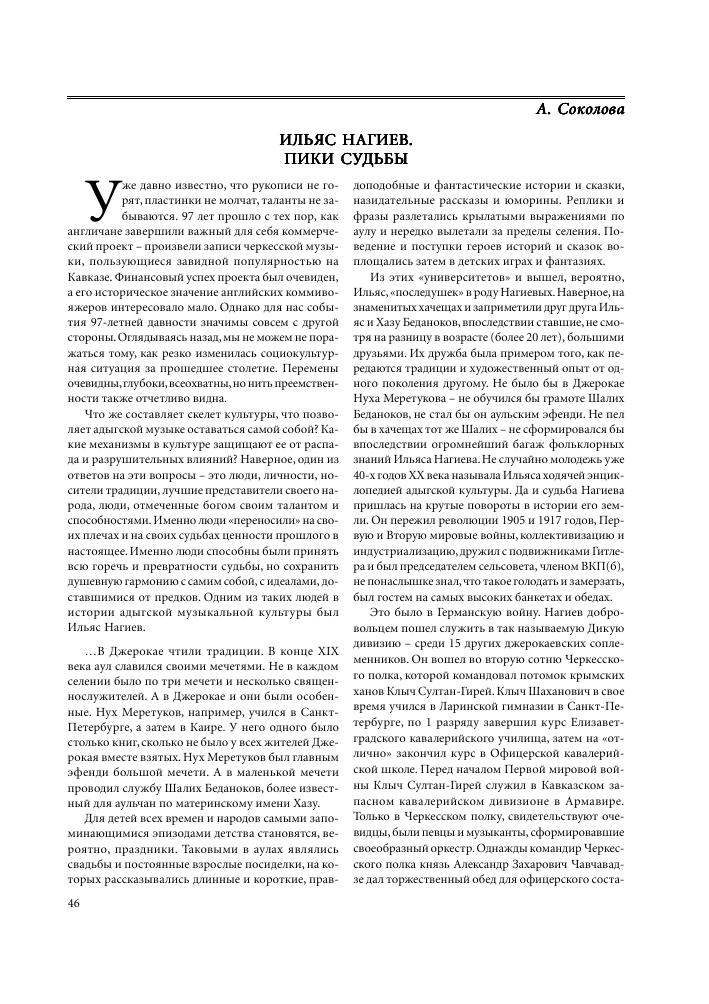А. Соколова
ИЛЬЯС НАГИЕВ. ПИКИ СУДЬБЫ
Уже давно известно, что рукописи не горят, пластинки не молчат, таланты не забываются. 97 лет прошло с тех пор, как англичане завершили важный для себя коммерческий проект - произвели записи черкесской музыки, пользующиеся завидной популярностью на Кавказе. Финансовый успех проекта был очевиден, а его историческое значение английских коммивояжеров интересовало мало. Однако для нас события 97-летней давности значимы совсем с другой стороны. Оглядываясь назад, мы не можем не поражаться тому, как резко изменилась социокультурная ситуация за прошедшее столетие. Перемены очевидны, глубоки, всеохватны, но нить преемственности также отчетливо видна.
Что же составляет скелет культуры, что позволяет адыгской музыке оставаться самой собой? Какие механизмы в культуре защищают ее от распада и разрушительных влияний? Наверное, один из ответов на эти вопросы - это люди, личности, носители традиции, лучшие представители своего народа, люди, отмеченные богом своим талантом и способностями. Именно люди «переносили» на своих плечах и на своих судьбах ценности прошлого в настоящее. Именно люди способны были принять всю горечь и превратности судьбы, но сохранить душевную гармонию с самим собой, с идеалами, доставшимися от предков. Одним из таких людей в истории адыгской музыкальной культуры был Ильяс Нагиев.
...В Джерокае чтили традиции. В конце XIX века аул славился своими мечетями. Не в каждом селении было по три мечети и несколько священнослужителей. А в Джерокае и они были особенные. Нух Меретуков, например, учился в Санкт-Петербурге, а затем в Каире. У него одного было столько книг, сколько не было у всех жителей Дже-рокая вместе взятых. Нух Меретуков был главным эфенди большой мечети. А в маленькой мечети проводил службу Шалих Беданоков, более известный для аульчан по материнскому имени Хазу.
Для детей всех времен и народов самыми запоминающимися эпизодами детства становятся, вероятно, праздники. Таковыми в аулах являлись свадьбы и постоянные взрослые посиделки, на которых рассказывались длинные и короткие, прав-
доподобные и фантастические истории и сказки, назидательные рассказы и юморины. Реплики и фразы разлетались крылатыми выражениями по аулу и нередко вылетали за пределы селения. Поведение и поступки героев историй и сказок воплощались затем в детских играх и фантазиях.
Из этих «университетов» и вышел, вероятно, Ильяс, «последушек» в роду Нагиевых. Наверное, на знаменитых хачещах и заприметили друг друга Ильяс и Хазу Беданоков, впоследствии ставшие, не смотря на разницу в возрасте (более 20 лет), большими друзьями. Их дружба была примером того, как передаются традиции и художественный опыт от одного поколения другому. Не было бы в Джерокае Нуха Меретукова - не обучился бы грамоте Шалих Беданоков, не стал бы он аульским эфенди. Не пел бы в хачещах тот же Шалих - не сформировался бы впоследствии огромнейший багаж фольклорных знаний Ильяса Нагиева. Не случайно молодежь уже 40-х годов XX века называла Ильяса ходячей энциклопедией адыгской культуры. Да и судьба Нагиева пришлась на крутые повороты в истории его земли. Он пережил революции 1905 и 1917 годов, Первую и Вторую мировые войны, коллективизацию и индустриализацию, дружил с подвижниками Гитлера и был председателем сельсовета, членом ВКП(б), не понаслышке знал, что такое голодать и замерзать, был гостем на самых высоких банкетах и обедах.
Это было в Германскую войну. Нагиев добровольцем пошел служить в так называемую Дикую дивизию - среди 15 других джерокаевских соплеменников. Он вошел во вторую сотню Черкесского полка, которой командовал потомок крымских ханов Клыч Султан-Гирей. Клыч Шаханович в свое время учился в Ларинской гимназии в Санкт-Петербурге, по 1 разряду завершил курс Елизавет-градского кавалерийского училища, затем на «отлично» закончил курс в Офицерской кавалерийской школе. Перед началом Первой мировой войны Клыч Султан-Гирей служил в Кавказском запасном кавалерийском дивизионе в Армавире. Только в Черкесском полку, свидетельствуют очевидцы, были певцы и музыканты, сформировавшие своеобразный оркестр. Однажды командир Черкесского полка князь Александр Захарович Чавчавад-зе дал торжественный обед для офицерского соста-
ва Дикой дивизии. Во время обеда офицеры и всадники танцевали, а оркестр играл «горские мелодии» и ту, которую хорошо знали в России во всех кругах общества под названием «Лезгинка».
Любопытно, что в воспоминаниях людей, бывших на данном обеде, оркестр нередко именовался «хором». Вероятно, особенность инструментального ансамбля адыгов - включение в его состав голоса наравне с музыкальными инструментами как самостоятельной инструментальной краски - послужила тому причиной. И если это так, то Ильяс Нагиев не мог не участвовать в таком ансамбле. Он был непревзойденным мастером жъыу - вокального подголоска в оркестре, о чем свидетельствуют фонозаписи, созданные в Армавире. Итак, гости торжественного обеда наслаждались танцами и песнями черкесов, которые производили на славян потрясающее впечатление. Я приведу пространную цитату Брешко-Брешковского. Николай Николаевич в качестве корреспондента журнала «Нива» был командирован в Черкесский полк и оставил нам свои впечатления об увиденном: «Всю свою мятежную и страстную душу вкладывают горцы в свой характерный танец, то медленный, пластический, то бурный, стремительный, не знающий удержу, когда весь вооруженный до зубов стройный всадник превращается в сплошной мелькающий круг, за которым трудно уследить глазами, а его сильные мускулистые ноги в мягких чувяках выделывают изумительные головоломные па, такие трудные, хоть наперекор всей человеческой природе.
И в этой лезгинке безусых тонких юношей сменяли крепкие, сухощавые старики, и трудно было сказать, в ком больше огненного темперамента, зноя: в юношах или в изрубленных, на шестом или седьмом десятке лет, видевших разные виды, абреках».
Вернувшись с Германской войны с российскими царскими наградами, с приходом Советской власти Ильяс Нагиев был вынужден закопать их в своем огороде. И до сих пор родственники Нагиева не могут найти в земле заветные награды. Но в те времена иначе и невозможно было поступить. Как человек грамотный и довольно опытный, поездивший по городам и странам, Ильяс Нагиев в 1933 году был избран председателем сельсовета. Он умел читать и писать по-русски, и это сыграло определенную роль в выдвижении наверх. Однако, все, что делала новая власть, не было по душе воину и музыканту. Узнав о том, что в Адыгее организовывают ансамбль песни и танца, Ильяс продал свою хату (за часы!) и вместе с женой переехал в Майкоп.
Они сняли жилье у пожилой пары, и началась привычная для Ильяса «бродячая» жизнь - гастроли, поездки, новые знакомые, встречи, посиделки.
Эта жизнь напоминала ту, «досоветскую», когда он дружил с Магометом Хагауджем и Шалихом Бе-даноковым. Вместе с ними ему доводилось бывать в Ростове-на-Дону и Краснодаре, Армавире и на Черноморском побережье - везде, где хотели слушать адыгскую музыку, где играли свадьбы, встречали гостей. Ильяс тогда был самым молодым в группе музыкантов, но был принят на равных из-за красивого высокого голоса, цепкой памяти, умения ладно строить ансамбль. Когда в 1911 году за ними прислали посыльных из Армавира, Ильяс и не подозревал, что записанные им пластинки станут в будущем образцами классического народного пения. Ему доверили спеть несколько песен: «Хатхе Кочас», «Хым-сад», «Чещтеу», «Коджебердуко Мхамат», «Си Пак», «Песню Кущука Альджириеко», «Песню Шератло-кова». Он сделал наименьшее число записей по сравнению со своими старшими товарищами, но какие это были песни! Классика! Свадебная ритуальная «Си Пак» по сей день исполняется в самодеятельных и профессиональных коллективах как высочайший образец народного искусства. Когда реконструируют старинный свадебный обряд, песня «Си Пак» воспринимается как его знамя. Восхваление девушки по имени Пак превращается в восхваление невесты как таковой.
Песня «Хымсад» менее известна в широких кругах. Возможно, причина тому - речитативный контур мелодии, отсутствие кантиленных распевов, запоминающихся мотивов. Однако гыбзовая традиция и не предполагала кантиленой распевности. Эмоциональная, возбужденная речь, слова и выражения, заставляющие вздрогнуть самое твердое сердце, ошеломляющий сюжет - вот чем покоряла песня, названная именем девушки с удивительной, фатально-трагической судьбой. Легенда к песне записана нами со слов Майи Джандар. (К большому сожалению, устные предания к песням не фиксировались на пластинки, но в хачещах и везде, где пелась песня-плач, обязательно обсуждались все детали происшествия). Вот она:
«Когда это было? Возможно, в середине XIX века, а может быть, и позднее. Красавица Хымсад приглянулась богатому старику. Сказал он братьям девушки о желании взять ее в жены. Но сердце Хымсад принадлежало другому - красавцу Татлюс-тану, служившему в их доме конюхом. Молодой парень решил испытать судьбу: оставив на попе-
ченье своего брата сбежавшую из дома девушку, не дотронувшись до невесты, он ушел в поход на целый год. Хымсад ждала возлюбленного, не сомневаясь, что дождется его, и они сыграют свадьбу. Через год день в день вернулся Татлюстан, и радости Хымсад не было предела. Она кинулась стелить ему постель, но когда управилась со всеми делами, увидела, что воин от усталости заснул стоя. Не желая его будить, девушка вышла во двор и сразу услышала шум на улице. От этого шума встрепенулся и Татлюстан. Он вышел за ворота узнать, в чем дело - оказалось, разбойники угоняют аульский скот. Пустился на выручку своим товарищам Татлюстан - и погиб в смертельной схватке. Вот и осталась Хымсад одна - то ли невеста, то ли вдова. А богач вновь посылает ее братьям знак, что он по-прежнему желает взять Хымсад в жены. Братья опять спрашивают волю своей сестры. Та соглашается дать положительный ответ, но ставит условие: до окончания годового траура по возлюбленному старик не прикоснется к ней.
Проходит год, и Хымсад просит мужа отвести ее на кладбище, чтобы попрощаться с Татлюста-ном. И вновь ее волю исполняют. Привели братья Хымсад к могиле парня. Девушка попросила оставить ее одну. А когда через некоторое время братья вернулись за ней, они нашли ее мертвой. Спрятав ножницы под платьем, Хымсад заколола себя на могиле любимого».
Почему именно Ильясу Нагиеву доверили петь эту песню? Наверное, только его высокий драматический голос мог поведать страшную судьбу героини так трепетно и выразительно. В высоком регистре голос Ильяса звучал напряженно. Вибрируя на долгих нотах, певец медленно, поступенно вел мелодию вниз, а подпевающие подхватывали его «падение», вторя ему горестными возгласами.
Записи 1911 года зафиксировали тот репертуар и то исполнительское качество, какие были свойственны эталонному ансамблю черкесской музыки в начале ХХ века. Почему эталонному? Наверняка, подобные ансамбли возникали и в других адыгских селениях, но у ансамбля Хагауджа уже было имя, высокая репутация, огромный сценический опыт. Музыканты много разъезжали, их репертуар был обширен, их исполнение удовлетворяло запросы разной публики и разных субэтносов - кабардинцев, абадзехов, темиргоевцев, шапсугов, бжедугов. Нагиев, как самый молодой в группе, получил исполнительскую школу, равной которой, вероятно, в те времена не было.
Многое из того, что он выучил и пел в 1911 году, перешло в его репертуар уже как солиста Ансамбля песни и танца Адыгейской автономной области. С самых первых лет существования Ансамбль песни и танца имел завидную гастрольную афишу. Он выступал в Ташкенте, Ашхабаде, Ленинграде, на Украине - и везде Ильяс Нагиев запевал старинные адыгские песни, а хор вторил ему жъыу. Хормейстером ансамбля работал Федор Сергеевич Олейников - блестящий хоровик, профессионал, пытливый и кропотливый музыкант. Он часами сидел с Ильясом Нагиевым и записывал от него адыгские мелодии, предания к песням, советовался по поводу построения музыкальных образов и их трактовок. Репутация всезнающего прочно «прирастала» к Ильясу, и молодежь, которая составляла большую часть ансамбля, относилась к нему почти как к старцу (в середине 30-х годов Нагиеву было примерно 55 лет, но те, кто вспоминал о нем в 2003 году, считали, что Ильяс в то время перешагнул свое 70-летие). Нагиев порой подсказывал, какому солисту поручить исполнение той или иной песни. Именно он стал разучивать с певицей Зулей Чичевой «Плач Гоше-гег». За исполнение этой песни Зульхадже Чичева впоследствии получила звание Заслуженной артистки России. Нагиев с большим уважением относился и к Федору Сергеевичу, обладателю красивого баса. Олейников был «поющим» дирижером. На концертах он наравне с адыгами исполнял партии жъыу в адыгских песнях, делал хоровые обработки песен Шабана Кубова, включал в репертуар ансамбля музыку советских авторов - Мурадели, Бланте-ра и др. Вскоре Федора Сергеевича Олейникова отстранили от дирижерской работы в ансамбле за то, что он был верующим человеком и пел в церкви.
Признание за Ильясом Нагиевым выдающихся способностей было и со стороны ученых-фоль-клористов, собиравших и изучавших адыгскую народную музыку в 30-годы ХХ в. Документальным подтверждением такого признания служит уникальный фотоснимок 1932 года, на котором запечатлены участники группы, изучающие адыгскую культуру в целях создания будущей оперы. Среди них - знаменитый композитор, фольклорист, музыкальный деятель Михаил Фабианович Гнесин, поэт Тихон Чурилин, художник Бронислава Иосифовна Каменская, фольклорист Ибрагим Цей (инициатор приглашения московских специалистов). В центре этого снимка - двое моложавых мужчин: Ильяс Нагиев и Ибрагим Наурзов. Вероятно, Ибрагим Цей рекомендовал их Гнесину
как знатоков адыгского фольклора, а Ильяса - еще и как яркого и талантливого исполнителя адыгских народных песен. Для Михаила Гнесина, собиравшего материал для написания оперы «Адыгея», Ильяс Нагиев мог оказать неоценимую услугу не только как певец, но и как знаток всех тонкостей традиционного быта и культуры. Откуда в нем «сидел» этот адыгский дух? Почему его ум отличался особой цепкостью и приметливостью в отношении всего старинного, по-настоящему адыгского?
Семья Нагиевых была большой - 5 мальчиков и 7 девочек. Ильяс был младшим среди сыновей. Глава семьи Татлюстан Хабракович Нагиев гордился детьми. Его Беч прославился в ауле как самый лучший косарь. Хасан и Даур занимались скотоводством. Марзан имел славу ловкого абрека. Когда в ха-чещах по какому-либо поводу разгорался спор, то вызывали в качестве рефери старшего из братьев Нагиевых - Сафэра. Он прожил 95 лет, и до конца жизни носил славу глубоко религиозного, рассудительного и много знающего человека, замечательного рассказчика. За Ильясом с детства закрепилась слава музыканта. В хачещах он играл на шычепщы-не, знал немало старинных песен, исполнял нартс-кие пщынтли. Он не был удачлив в семейной жизни. Его первая жена и дочь умерли очень рано, вторая жена Аминат (из рода Кагазежевых) не могла иметь детей. К крестьянскому труду Ильяс был не склонен - это видели окружающие, одни шутили по этому поводу, другие подтрунивали. Рассказывают, что из всех видов крестьянского труда Нагиев облюбовал завязывание мешков с мукой. На молотилке за каждые 100 завязанных мешков ему отдавали один. Такой вид заработка его устраивал.
Чем старше становился Ильяс, тем строже и бережнее относился к заветам предков. Он был открытым и честным, не мог, не любил, не умел врать. Ему не комфортно было заниматься крестьянским трудом, его натура рвалась к музыке, танцам, к тому, что отличало адыгов от каких-либо других людей. И когда пришло приглашение поступить на работу в Адыгейский национальный ансамбль песни и танца, он, не задумываясь, оставил Джерокай и переехал в Майкоп. Вторично его призвали работать в ансамбль уже в конце войны - в феврале 1945 года.
Из Майкопа в Джерокай приехал новый директор ансамбля и стал уговаривать Ильяса вновь поехать в Майкоп, помочь разучить с новичками репертуар, подготовить программу. Нагиев отказывал-
ся - к тому времени он уже оформил себе пенсию, здоровье не позволяло ему танцевать. Директор упрашивал, говорил, что Ильясу не придется ничего делать самому - надо только учить других. Жена Нагиева тоже хотела вернуться в Майкоп. Если бы знать тогда, что возвращение в ансамбль повлечет за собой арест и скорую смерть! Среди родственников и в народе сохранилась легендарная фраза, послужившая как будто причиной расправы с уже пожилым артистом. Фраза эта была, якобы, произнесена Ильясом Нагиевым на 10-летнем юбилее ансамбля в присутствии высоких гостей. Ильяс будто бы пошутил, что он как музыкант за один вечер может заработать больше, чем колхозник за весь год.
Эта история обрастала слухами и подробностями, но только недавно, в 2002 г., при активной поддержке внучатого племянника Ильяса Нагиева Казбека Касимовича Нагиева, работника органов внутренних дел Республики Адыгея, нам удалось получить из архива Краснодара уголовное дело на Нагиева Ильяса Татлюстановича за № 20715, начатое 19 июня 1947 г. и законченное 7 августа 1947 г. Это дело - особая история во взаимоотношениях людей. В нее в качестве свидетелей и обвиняемых, ответчиков и сочувствующих были втянуты практически все артисты Адыгейского национального ансамбля. При чтении увесистой папки документов (материалов допросов, очных ставок, анонимных записок) отчетливо воссоздавалась атмосфера того времени: страх и боязнь свидетелей не оказаться на месте обвиняемых, человеческие подлость и трусость с одной стороны, прямота и честность, сдержанность и выносливость - с другой. В материалах уголовного дела фигурировали имена людей, прославившихся в 50-60-е годы, но в те злосчастные 40-е совершивших не самые достойные их имени поступки. Прочитав «от корки до корки» все уголовное дело, сделав ксерокопии 86 страниц важного для нас текста, мы решили не оглашать все детали этого печального события. Еще живы родственники тех, кто доносил или лгал, -им, вероятно, будет больно читать правдивую информацию о своих близких. Но определенную часть текстов допросов и очных ставок привести стоит. В них - знание нашей истории, правда о человеке, которого можно назвать героем своего времени.
Поводом для ареста послужило заявление директора Адыгейского национального ансамбля Бахсета Напсо, в котором он сообщал, что Ильяс Нагиев «систематически в резкой форме проводит
различную контрреволюционную агитацию, возводит озлобленную клевету на руководителей ВКП(б) и советского правительства, социалистический строй, советскую армию, колхозы, при этом восхваляя дореволюционный капиталистический строй, высказывает пораженческие настроения турецкой ориентации, желает войны против СССР и победы Турции при поддержке англо-американского блока». «Контрреволюционная деятельность» Нагиева была подтверждена допрошенными свидетелями: Напсо Б. С., Триш Ф. X., Хостовой Г. И., Мирзоевой Ш. А., Темизок 3. X. и др.
В документах уголовного дела значились два разных года рождения арестованного. На первом допросе он был 1881 года рождения, а в пенсионном удостоверении стояла другая дата - 1890. В первом же протоколе были зафиксированы внешние данные Нагиева: «рост 165-170 см, фигура средняя, шея короткая, волос светло-русый с проседью, глаза голубые, лицо круглое, лоб высокий, скошенный, брови дугообразные, извилистые, нос большой, толстый, спинка носа выгнутая, рот малый, уши малые». Первый допрос проходил 19 июня с половины десятого вечера до полуночи. Всего было девять допросов и пять очных ставок. 12 июля 1947 г. лейтенант Ливчиков вел допрос всю ночь.
В своей биографии И. Нагиев указал, что вступил в колхоз в 1929 году, а до коллективизации работал председателем исполкома в ауле Хакурино-хабль. До 1926 г. работал в ауле Джерокай председателем сельского Совета. С 1914 по февраль 1917 г. служил в царской армии рядовым солдатом в Черкесском кавалерийском полку. С 1917 года все время проживал в Джерокае и в других армиях не служил. В Великую Отечественную войну жил в Джерокае, при немцах нигде не работал. Непродолжительное время он был даже членом большевистской партии. Из ВКП(б) его исключили в 1925 г. из-за посещения мечети. На одном из допросов Нагиев твердо заявлял: «Сам я являюсь человеком с религиозными убеждениями мусульманской веры. Я придерживаюсь адыгейских национальных обычаев, и к этому призываю молодежь».
Так что же крамольного говорил Нагиев? На него доносили, что он сравнивал содержание солдат в Германскую и Отечественную войну, говорил, что в царской армии солдаты и офицеры были гораздо лучше материально обеспечены, что инвалиды Отечественной войны вынуждены существовать на скудную пенсию в 130 рублей в месяц, что они буквально задушены различными налога-
ми, поборами за заем, мясозаготовками и т. п. Свидетели подтвердили, что Нагиев рассуждал о политике СССР как о лживой, направленной против своего народа: «Советский Союз продает пшеницу другим странам, хочет показать, что государство богато, а его граждане фактически голодают. Лидеры Кремля ничего не знают о жизни простых людей». В среде артистов он рассказывал о своей встрече с Клыч Султан-Гиреем в Джерокае, который спустя почти 30 лет после совместной службы в Дикой дивизии сразу узнал Ильяса и много рассказывал о жизни людей во Франции, Германии, более демократичной и материально благополучной Турции. Он неоднократно критиковал избирательную систему в Советском Союзе, считая, что депутаты Верховного Совета не могут считаться избранниками народа, так как их имена заранее намечаются правительством, а народ потом заставляют за них голосовать. Мужские беседы в палисадниках на скамеечках, комментарии к газетным передовицам становились «материалом» для уголовных дел.
Женщины-свидетели указывали, что Нагиев дурно отзывался о законах советской власти, раскрепостивших женщин и предоставивших им равные права с мужчинами. Нагиев говорил, что несоблюдение старых адыгских обычаев привело к тому, что женщины-адыгейки стали теперь грубыми, испорченными, и во всем этом виновата советская власть. Когда при большом обществе (в присутствии депутата Верховного Совета Чамокова) Нагиева попросили рассказать о том, что он в жизни видел самое интересное, он сказал, что самое интересное в его жизни - это колхозы. Люди круглый год работают и ничего не получают.
Во всех допросах свидетели указывали, что они имеют нормальные отношения с Нагиевым, личной неприязни и счетов, ссор с ним не имеют. Судя по тому, что почти десять допрошенных в разные дни свидетелей указывали на одни и те же факты, пересказывали их практически одними и теми же словами, Ильяс Нагиев и вправду не скрывал своих взглядов на жизнь, смело судил об отношении власти к простым людям, понимал и предсказывал развитие событий в мире, размышлял об изменении культурных ценностей. Что позволяло ему делать это открыто и смело? Личные качества? Неумение и нежелание лгать себе и окружающим? Богатый жизненный опыт - ведь он повидал свет, поездил по миру? А, может быть, его ничто не сдерживало -ведь у него не было детей, личного имущества, дома, какого-либо богатства? Или он был уверен, что то,
что говорил на родном языке своим соплеменникам, никто и никогда не донесет до карающих органов? Или в определенном возрасте человек поднимается выше страха за собственную жизнь?
Читая документы, мы не можем не поражаться сдержанности и выносливости арестованного. Он никого не обвинил, не оклеветал, не опорочил, не назвал он следствию и истинной причины своего ареста. Причина та была низменная, мелкая, подленькая. И ее не найти во всех материалах следствия. Она стала нам известна из устных рассказов современных джерокаевских жителей, кто слышал и запомнил, отчего на самом деле нависла над Ильясом Нагиевым беда.
Все дело было в долге, который имел директор Адыгейского национального ансамбля Бахсет На-псо перед Нагиевым. Этот долг (одни говорят - денежный в размере 500 рублей, другие - в выражении нескольких мешков пшеницы или муки) Напсо не захотел или не смог отдать, а когда Ильяс стал настаивать на его возвращении, то начальник нашел способ избавиться от него. Соорудить уголовное дело против Нагиева было легко. Он и вправду не скрывал своих мыслей, рассказывал о прошлой жизни в приподнятых тонах, а современную жизнь всячески осуждал. Он, конечно же, в январе 1943 года присутствовал на пресловутом обеде, который давал в честь генерала Клыч Султан-Гирея староста сельской управы аула Джерокай Гуагов Хазартали Багадирович, и, конечно же, беседовал со своим бывшим командиром - но об этом ни Гуагов, ни сам Нагиев на допросах не признались.
Его дело было «шито белыми нитками». На очной ставке с Бахсетом Напсо Нагиев указал, что бывший директор занимал у него 500 рублей и до сей поры не возвратил долг. Напсо оправдался тем, что деньги у Нагиева он взял для организации перевозки его личных вещей из Джерокая в Майкоп. Вещи доставлены в Майкоп, значит, деньги были потрачены по назначению.
Только самым близким Нагиев жаловался, что Напсо еще в январе 1941 г. занял у него не только 500 рублей, но и еще 150 рублей для покупки скатов для грузовика, принадлежавшего ансамблю. Когда Нагиев уехал в Джерокай, Напсо посчитал, что про долг можно забыть. Напоминания о долге приводили директора в ярость. В 1947 г. Б. Напсо сняли с работы за финансовые нарушения, и незадолго до суда над Нагиевым бывший директор срочно уехал в Баку, как сказано в документах, на постоянное место жительства. На суд он не явил-
ся. Точно так же поступили и многие другие свидетели - кто отправился в отпуск на Черное море, кто срочно лег в больницу... Суд дважды переносили и, наконец, 28 октября 1947 г. судьи вынесли обвинительный приговор по статье 58 пункт 10. Пожилого человека, инвалида II группы по здоровью, приговорили к семи годам тюремного заключения. Отбывать наказание его отправили в Армавирскую тюрьму. Там 2 декабря 1947 г. Ильяс Нагиев умер от туберкулеза.
В материалах уголовного дела лишь вскользь упоминается о том, что Ильяс Нагиев был знатоком старинных адыгских песен - и ни разу, ни одним словом или выражением, что его голос записан на пластинки. В тех обстоятельствах данные факты были не важны, если не лишни. То, что через пластинки Нагиев мог быть связан с англичанами, только бы усиливало подозрение на его антисоветские взгляды. После ареста Нагиева пластинки с его голосом было приказано уничтожить, а его имя как можно скорее забыть. Жена Нагиева вернулась в аул и вскоре вновь вышла замуж. Многочисленные племянники Ильяса старались о нем не вспоминать - родство с осужденным по 58-й статье не сулило ничего хорошего. И от Личности, казалось бы, ничего не осталось - ни дома, ни пластинок, ни личных вещей, ни продолжения жизни в детях. Но изменилось время, вернулись или возрождаются прежние ценности, и мы вновь по крупицам собираем то, что позволяет нам увидеть и понять Нагиева как глубокую и цельную личность, как героя, как человека, значимого и после смерти. Сегодня у Ильяса Нагиева новый пик судьбы. Из Лондона возвращены записи с его песнями, его голосом. Эти пластинки люди хотят слушать и изучать. Нашлись случайно не исчезнувшие фотографии певца, одна из них - из пресловутого уголовного дела. Мысли Нагиева сегодня кажутся нам ясными, прозорливыми, логичными. Он, как и прежде, продолжает нас удивлять своим талантом и личным подвигом.
Поражает нас и то, что все три певца, голоса которых были записаны на пластинки в 1911-1913 годах в Армавире, - Магомет Хагаудж, Шалих Бе-даноков, Ильяс Нагиев - прожили и умерли так же ярко, как и трагически. У каждого - фантастические взлеты в артистической карьере, мифологизированная судьба и трагический финал. И свет каждого из них по сей день освещает пути музыкальных дорог.





 CC BY
CC BY 63
63