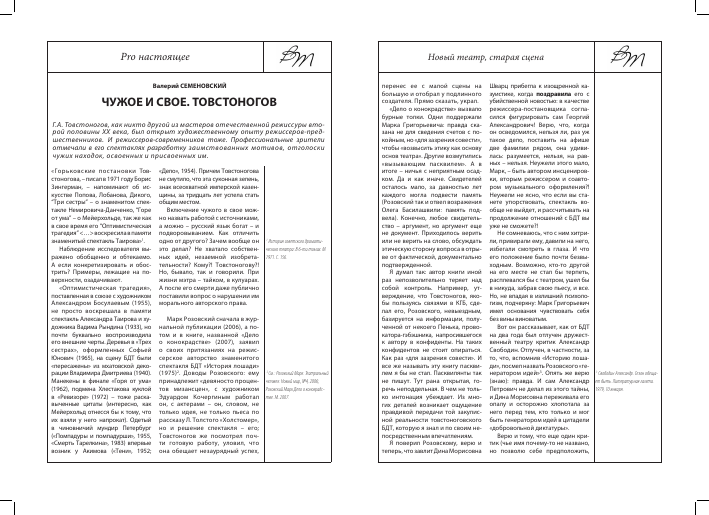Валерий СЕМЕНОВСКИЙ
ЧУЖОЕ И СВОЕ. ТОВСТОНОГОВ
Г.А. Товстоногов, как никто другой из мастеров отечественной режиссуры второй половины ХХ века, был открыт художественному опыту режиссеров-предшественников. И режиссеров-современников тоже. Профессиональные зрители отмечали в его спектаклях разработку заимствованных мотивов, отголоски чужих находок, освоенных и присвоенных им.
«Горьковские постановки Товстоногова, - писал в 1971 году Борис Зингерман, - напоминают об искусстве Попова, Лобанова, Дикого, "Три сестры" - о знаменитом спектакле Немировича-Данченко, "Горе от ума" - о Мейерхольде, так же как в свое время его "Оптимистическая трагедия" <.. .> воскресила в памяти знаменитый спектакль Таирова»1.
Наблюдение исследователя выражено обобщенно и обтекаемо. А если конкретизировать и обострить? Примеры, лежащие на поверхности, озадачивают.
«Оптимистическая трагедия», поставленная в союзе с художником Александром Босулаевым (1955), не просто воскрешала в памяти спектакль Александра Таирова и художника Вадима Рындина (1933), но почти буквально воспроизводила его внешние черты. Деревья в «Трех сестрах», оформленных Софьей Юнович (1965), на сцену БДТ были «пересажены» из мхатовской декорации Владимира Дмитриева (1940). Манекены в финале «Горя от ума» (1962), подмена Хлестакова куклой в «Ревизоре» (1972) - тоже раскавыченные цитаты (интересно, как Мейерхольд отнесся бы к тому, что их взяли у него напрокат). Одетый в чиновничий мундир Петербург («Помпадуры и помпадурши», 1955, «Смерть Тарелкина», 1983) впервые возник у Акимова («Тени», 1952;
«Дело», 1954). Причем Товстоногова не смутило, что эта суконная зелень, знак всеохватной имперской казенщины, за тридцать лет успела стать общим местом.
Включение чужого в свое можно назвать работой с источниками, а можно - русский язык богат - и подворовыванием. Как отличить одно от другого? Зачем вообще он это делал? Не хватало собственных идей, незаемной изобретательности? Кому?! Товстоногову?! Но, бывало, так и говорили. При жизни мэтра - тайком, в кулуарах. А после его смерти даже публично поставили вопрос о нарушении им морального авторского права.
Марк Розовский сначала в журнальной публикации (2006), а потом и в книге, названной «Дело о конокрадстве» (2007), заявил о своих притязаниях на режиссерское авторство знаменитого спектакля БДТ «История лошади» (1975)2. Доводы Розовского: ему принадлежит«девяносто процентов мизансцен», с художником Эдуардом Кочергиным работал он, с актерами - он, словом, не только идея, не только пьеса по рассказу Л. Толстого «Холстомер», но и решение спектакля - его; Товстоногов же посмотрел почти готовую работу, уловил, что она обещает незаурядный успех,
1 История советского драматического театра: В 6-ти томах. М. 1971. С. 156.
2См.: Розовский Марк. Театральный человек. Новый мир, №4,2006; Розовский Марк Дело о конокрадстве. М. 2007.
Новый театр, старая сцена
перенес ее с малой сцены на большую и отобрал у подлинного создателя. Прямо сказать, украл.
«Дело о конокрадстве» вызвало бурные толки. Одни поддержали Марка Григорьевича: правда сказана не для сведения счетов с покойным, но «для зазрения совести», чтобы «возвысить этику как основу основ театра». Другие возмутились «вызывающим пасквилем». А в итоге - ничья с неприятным осадком. Да и как иначе. Свидетелей осталось мало, за давностью лет каждого могла подвести память (Розовский так и отвел возражения Олега Басилашвили: память подвела). Конечно, любое свидетельство - аргумент, но аргумент еще не документ. Приходилось верить или не верить на слово, обсуждать этическую сторону вопроса в отрыве от фактической, документально подтвержденной.
Я думал так: автор книги иной раз непозволительно теряет над собой контроль. Например, утверждение, что Товстоногов, якобы пользуясь связями в КГБ, сделал его, Розовского, невыездным, базируется на информации, полученной от некоего Пенька, прово-катора-гэбэшника, напросившегося к автору в конфиденты. На таких конфидентов не стоит опираться. Как раз «для зазрения совести». И все же называть эту книгу пасквилем я бы не стал. Пасквилянты так не пишут. Тут рана открытая, горечь неподдельная. В чем не только интонация убеждает. Из многих деталей возникает ощущение правдивой передачи той закулисной реальности товстоноговского БДТ, которую я знал и по своим непосредственным впечатлениям.
Я поверил Розовскому, верю и теперь, что завлит Дина Морисовна
Шварц прибегла к изощренной казуистике, когда поздравила его с убийственной новостью: в качестве режиссера-постановщика согласился фигурировать сам Георгий Александрович! Верю, что, когда он осведомился, нельзя ли, раз уж такое дело, поставить на афише две фамилии рядом, она удивилась: разумеется, нельзя, на равных - нельзя. Неужели этого мало, Марк, - быть автором инсценировки, вторым режиссером и соавтором музыкального оформления?! Неужели не ясно, что если вы станете упорствовать, спектакль вообще не выйдет, и рассчитывать на продолжение отношений с БДТ вы уже не сможете?!
Не сомневаюсь, что с ним хитрили, привирали ему, давили на него, избегали смотреть в глаза. И что его положение было почти безвыходным. Возможно, кто-то другой на его месте не стал бы терпеть, расплевался бы с театром, ушел бы в никуда, забрав свою пьесу, и все. Но, не впадая в излишний психологизм, подчеркну: Марк Григорьевич имел основания чувствовать себя без вины виноватым.
Вот он рассказывает, как от БДТ на два года был отлучен дружественный театру критик Александр Свободин. Отлучен, в частности, за то, что, вспомнив «Историю лошади», посмел назвать Розовского «генератором идей»3. Опять же верю (знаю): правда. И сам Александр Петрович не делал из этого тайны, и Дина Морисовна переживала его опалу и осторожно хлопотала за него перед тем, кто только и мог быть генератором идей в цитадели «добровольной диктатуры».
Верю и тому, что еще один критик (чье имя почему-то не названо, но позволю себе предположить,
3 Свободин Александр. Сезон обещает быть. Литературная газета. 1979,10 января.
что это был Евгений Калманов-ский, чуть ли не единственный в Ленинграде 1970-х своевольно-язвительный оппонент Товстоногова) сразу после премьеры сказал: не горюйте, Марк; все и так понимают, что спектакль - ваш, манера - ваша, а Товстоногов в такой манере, таким сценическим языком никогда не говорил и говорить не сможет. Правда, в этом вердикте содержится, на мой взгляд, неточность. В отличие от Эфроса, Любимова, Марка Захарова, с их легко узнаваемой индивидуальной манерой, у Товстоногова своей устойчивой манеры просто не было. Он ее менял в зависимости от материала пьесы, и казалось, что его индивидуальность растворяется в мастерстве режиссерского перевоплощения. Чему служило такое мастерство, отвечало ли оно назначению художника оставаться самим собой - вопрос. Запомним его и пойдем дальше.
Как бы то ни было, и внутри театра, и в близком его окружении действительно шептали по углам, что в новом спектакле Товстоногова явственно проступает индивидуальность Розовского. Но спектакль о Пегом, не таком, как все (читай: инакомыслящем), заведомо подозрительный для табуна мракобесов, требовал единства рядов и от табуна прогрессистов. Стало быть, и молчаливого согласия пожертвовать Розовским. Как «пегим».
Прочитав «Дело о конокрадстве», я пришел к уклончивому выводу: нет дыма без огня.
В конце своей горестной исповеди Марк Григорьевич сделал, по его же словам, «немаловажное замечание». В книгах Товстоногова о театре «самое ценное - стенограммы
репетиций. <...> Чтение этих стенограмм - мое любимое занятие на досуге, огромная товстоноговская школа мастерства. Очень поучительно видеть весь процесс постижения той или иной пьесы. <...> Товстоногов, что ни новая работа, предстает в этой зафиксированной театральной жизни как мастер высококлассного прочтения текста, тонкий, мыслящий человек, чувствующий все сложности и оттенки драматургических связей и сценической атмосферы - это режиссер-логик, режиссер-аналитик и лишь вследствие этого - творец. Художник в нем возникал при условии полного знания, чего он хочет. <...> Однако ни в одной товсто-ноговской книге мы не найдем ни
Г.А. Товстоногов в вагоне «Красной стрелы». 1986.
Фото Ю. Белинского
Новый театр, старая сцена
стенограмм репетиций "Истории лошади", ни развернутого исследования собственной работы, если таковая была. Странно, не правда ли? Это ли не косвенное доказательство того, что официально провозглашенный режиссер-постановщик "Холстомера" имел к этой постановке лишь некое касательство, и не более того» 4.
Но вслед за «Делом о конокрадстве» была опубликована осуществленная Семеном Лосевым и Людмилой Мартыновой подробнейшая запись репетиций спектакля5. Не реконструкция, а стенограмма, хроника. Документ!
«Весь процесс постижения» пьесы Товстоноговым из этого документа по-прежнему не виден. И ниоткуда не может быть виден: весь процесс обычно фиксировали, начиная с застольного периода, в котором Товстоногов на сей раз, естественно, не участвовал. (Того, что он вмешался в процесс, когда многое было сделано не им, никто не отрицал и не отрицает.) Зато очень даже видно и «полное знание, чего он хочет», и как добивается своего, применяя «огромную товстоногов-скую школу мастерства».
Два месяца (с 23 сентября по 21 ноября 1975 года, то есть вплоть до премьеры) репетиции ведет Товстоногов. Розовский присутствует, изредка дает частные рекомендации, иной раз не выдерживает: было не так! Да, спокойно соглашается мэтр, было не так, но теперь лучше. Репетиции, которые вел Розовский (прежде чем Товстоногов вмешался), не записывались. Можно ли допустить, чисто гипотетически, что лучше или, по крайней мере, не хуже было вовсе даже у Розовского? Чисто гипотетически - можно. Но в любом случае
утверждать, что Товстоногов имел к постановке «лишь некое касательство, и не более того», уже нельзя.
Те «девяносто процентов мизансцен», которые Розовский называет своими, имея в виду окончательный вариант спектакля, - преувеличение. Товстоногов мизансцени-рует по-своему. Активная работа с актерами по внутренней линии (особенно с Евгением Лебедевым, которого он часто просит остаться на сцене после общей репетиции) ведет за собой и отделку, и переделку линии внешней. Порой он отсекает находки Розовского, устраняет их путаную избыточность, смысловую невнятность. Порой использует их. Но устанавливает между ними другие контекстуальные связи, дает им другое обоснование и другой объем.
На первой своей репетиции Товстоногов дипломатично назвал ее корректурой. Теперь, прочитав стенограмму, Розовский этим словом защищает себя: да, именно корректурой, то есть изменениями и дополнениями, занимался Товстоногов, но решение-то было уже готово.
Я скажу иначе: и было готово и не было.
Стенограмма ясно показывает: идет не только корректура. Идет работа детальная, но не мелкая -системная. Качественно преобразующая то изначальное решение, которое предложено Розовским. Идет процесс сочинения, пересоздания сценического текста. Или, как сам Товстоногов определяет, процесс «импровизации содержания».
В перерыве одной из репетиций он обращается к актерам: «Вы не слышали в ВТО мой рассказ о Питере Бруке? Нет? Он говорил об импровизации содержания. Что
4 Розовский Марк. Театральный человек // Новый мир.№ 7,2006. С. 66
5 Георгий Товстоногов репетирует и учит. Составитель Е.И. i кель. СПб. 2007. С. 429-535.
Рго настоящее
это значит? Берется за основу какая-то легенда и на основе ее импровизируется новая. Актер, скажем, Шекспир, записывает, и получается "Гамлет" Шекспира... Вот примерно этим мы и занимаемся»6.
Благодаря хронике Лосева и Мартыновой весомость документа обрели и аргументы некоторых очевидцев.
Режиссер Владимир Ветрогонов, в ту пору товстоноговский студент: «Шла репетиция одного эпизода, когда я понял, что же он сделал на основе того, что делал Розовский. Репетировался музыкальный номер Холстомера, князя Серпуховского и Феофана. "На Кузнецком люду, се ля ви, /хошь проехай мимо, хошь дави./ Эй, поберегись!..". Три актера - Евгений Алексеевич Лебедев, Олег Валерьянович Басилашвили и молодой Юзеф Мироненко. Они что-то делали, крутились, катались по сцене, пели. Товстоногов сказал: "Так. <...> Братцы, ну-ка встаньте друг за другом, как это должно быть, когда едете в коляске. Впереди, естественно, лошадь. Потом кучер с вожжами. А седок сидит сзади. Выезжайте, трогайте". Басилашвили толкнул Мироненко, тот дернул вожжи, и впереди стоящий Лебедев как бы двинул копытами, заржал и пошел. Он дернул, Мироненко натянул вожжи - цепочка пошла назад -Басилашвили качнулся. Поехали. "Хорошо, - сказал Товстоногов. -Теперь встаньте в линию - посередине Евгений Алексеевич, справа Юзеф, слева Олег. Олег, трогайте, сделайте то же самое"»7.
О чем говорит этот пример?
«Импровизация содержания», не искажая общей стилистики, заявленной Розовским, но воплощенной им приблизительно и нескладно, обретает характер, вектор
поиска, типичный для Товстоногова. Стилистический ход фундаментально обеспечен действенным анализом. Сначала режиссер выверяет элементарную последовательность физических действий, бытовую логику поведения персонажей, которая прежде отсутствовала. Потом, развернув мизансцену фронтально, убирает неуместное здесь бытопо-добие; чтобы правда театра взлетала над правдой жизни, но не теряла логически обоснованной связи с ней. Перед нами не шифрованная картинка, не волюнтаристский выброс фантазии; театральный, условный ход считывается как ход безусловный. («Как бы условно вы ни подавали материал, но я, зритель, потому и верю в эту условность, что она бытово, то есть психологически оправдана»8. Этот постулат доминирует во всем, что говорил и делал Товстоногов: вне психологического оправдания художественная целостность любого спектакля невозможна.)
Хроника не позволяет усомниться и в достоверности свидетельства Олега Басилашвили. По его мнению, Розовский «много сил вложил в первый акт» как «мастер атмосферы», передающей театральными средствами поэтику литературного первоисточника. Но «во втором акте все это уходило, начинался какой-то другой театр». И вот пришел Товстоногов. «Первый акт он сократил чуть ли не в два раза, но сохранил основу режиссуры Розовского. Во втором акте он пошел только по Толстому, <...> вернулся к толстовской фабуле <...>. Использовав стилистику Розовского, Товстоногов перенес ее на второй акт, придав спектаклю гармонию и завершенность. <...> В результате его трудов первый и второй акт слились воедино. Георгий Александрович
5 Там же. С. 5
7 Георгий Товстоногов. Собирательный портрет. Авторы-составители Е.И. Горфункель, И.Н. Шимбаре-вич. СПб. 2006. С. 50.
8 Георгий Товстоногов репетирует и учит. С. 59-60.
Новый театр, старая сцена
многое добавил и многое убрал в первом акте и придумал весь второй акт». Вывод: «...спектакль сделал Товстоногов с гигантской помощью Розовского»9.
Басилашвили Розовскому явно симпатизирует, отдает должное его замыслу, его разнообразным усилиям. И все-таки: «.спектакль сделал Товстоногов.». Как раз по этому поводу Марк Григорьевич и заметил: «память его подвела». Продолжим цитату: «С этической точки зрения я абсолютно понимаю Олега Валерьяновича. Потому что проработать много десятилетий в БДТ под руководством Товстоногова и не поддержать его значило бы предать. Чего Басилашвили позволить себе не мог»10.
Об этике поговорим чуть позже: тема важная и непростая. Но поскольку в нашем распоряжении появилась хроника, постольку ограничиться «этической точкой зрения» мы уже не вправе: Басилашвили точен фактически.
Сейчас мы в этом убедимся.
Невзирая на хронику, уже после ее публикации, Марк Григорьевич утверждает: на большинстве репетиций Товстоногова Олег Валерьянович отсутствовал, потому что со сломанной ногой лежал в больнице и появился «буквально за 3-4 дня до премьеры»11. Кто же сделал с ним роль, как не он, Розовский?
Что-то, конечно, сделал. Многое.
Но, во-первых, начиная с 17 октября, Басилашвили на репетициях присутствовал, то есть перед выпуском спектакля Товстоногов репетировал с ним не «3-4 дня», а больше месяца. А во-вторых, все это время что-то менял в его роли. Тому, кто день за днем наблюдал за этими постепенными
изменениями, они, возможно, и впрямь могли показаться лишь корректурой. Но образ трансформировался кардинально.
Вот лишь некоторые реплики Товстоногова, извлеченные мной из записи разных репетиций с участием Басилашвили.
«Попробуем изменить ваш выход в начале второго акта. <...> Олег, а что, если сделать таким образом? Так взволновался, что когда Холстомер пришел первым, настолько спало напряжение, что ослаб и вас повело? <... > Не в том качестве существуете в погоне. Потеря вещи, собственности привела к тому, что Князь обезумел. Только тогда происходящее будет иметь смысл. <...> В этом качестве, Олег, ваш монолог никто не будет слушать. Если не последует взрыва, если вы вдруг не возмутитесь, монолог так и останется одноритмичным, и зрители заснут. <...> Все-таки не получается пластика человека, который так плохо ходит, что его приходится поддерживать. Когда Фриц вас поддерживает, сникните, обмякните. <...> Сейчас не понимаю, о чем монолог. Не о достоинствах лошади идет речь, а о ее покупке! О том, какой вы знаток! <.> Нет, Олег, не растет тема. За чем мы следим в сцене? Узнает князь Холстомера или нет? Я - зритель - должен до последней секунды надеяться, что вы его узнаете! Как только ниточка связи между вами рвется, как только вас перестает мучить сходство, сцена становится неинтересной. <...> Вот что я предлагаю, Олег. (Вышел на сцену, показывает. - Прим. хронистов.) Прошел кусок: вы и Время! Подвел итог, а итог ведь - крах, да? И вдруг увидели снова Пегого. "Как похож! Нет, как похож!" И вдруг сам, как в юности, - "нет, как похож!" - легко встал и пошел к нему! Остановился
9 Георгий Товстоногов. Собирательный портрет. С. 18-19.
"' Розовский Марк. Меня не поссорить с Товстоноговым! Невское время. 2008,19 марта.
1 Там же.
Рго настоящее
около лошади! Нет, не может быть, что это Холстомер. Согнулся. Но скажу, все равно скажу главное: "Как я устал жить!" Положил голову лошади на плечо, дал себя пожалеть, у самого плечи затряслись... А впрочем, что я делаю? Галлюцинации. То Матье, то Феофан, то Холстомер. Какой это Холстомер? Это призрак, призрак прошлого, это зеркало, в котором вижу прежнего себя! Уйди прочь! Не хочу! "Но, но, но, но!" Отмахнулся, отшатнулся от него. Но куда идти? Где этот лакей? Добавьте: "Человееек!" И стоите беспомощный, согнутый, пока вас не заберут отсюда, пока идет текст Хора о старости»12.
14 ноября, когда роль в основном сделана, Товстоногов вдруг говорит: «Олег, у меня к вам революционное предложение». И, как фиксируют в своей ремарке Лосев и Мартынова, «предлагает поискать иную физику старого Князя. Отказаться от дряхлости, наоборот, пусть он будет вытянутый, прямой, как в молодости, но вдруг, к всеобщему удивлению, Князя заносит». Далее - прямая речь Товстоногова: «.заносит не только потому, что Князь пьяный, не только от зажатия сосудов, но и от внутреннего маразма. То, что в нем намечалось в молодости: презрение ко всему окружающему, кроме себя самого, дало свои плоды. Он пришел к полному одиночеству и, как следствие, возник разлад психики. Ведь вся сцена строится на том, что он принимает Мари за Матье, Фрица за Феофана, а реальное существо, бывшее когда-то при нем, Холстомера, не узнает. Стеклянный глаз! Остановившийся стеклянный глаз - вот зерно роли!»13.
Обратим внимание: определение зерна роли возникает на
заключительной стадии работы над ролью. Как следствие «импровизации содержания», уточняющей и утончающей изначальный тезис: князь -воплощение бессмысленно-суетной, опустошенной чувственности.
Тезис принадлежит Розовскому, образ - Товстоногову.
Такое «разделение труда» распространяется и на роль Холстомера, и на спектакль в целом. Многое, многое здесь от Розовского, но органика бытия, магия большого искусства - не от него.
Шаг за шагом и с неумолимой логикой «импровизация содержания» превращает замысел-решение (Розовского) в решение-спектакль (Товстоногова).
Марк Григорьевич этого не видит. Защитник «профессиональной этики» простодушен - не злонамерен, а именно простодушен - в своем убеждении: Товстоногов совершил «неблаговидный поступок», нарушив приоритет «режиссерского решения», понятия, которое «сам же всегда отстаивал» и которое «являет собой - по Товстоногову! - структуру из многих составляющих»14.
Но что толку от этой структуры, если ее составляющие не приведены к художественной целостности!
Актриса Татьяна Тарасова, участница репетиций: «Товстоногов предлагал Розовскому самому все исправить: "Вы режиссер, вы же ставите". Но Розовский не сумел. <...> Он мог отдельные ходы найти, а вот собрать все вместе - тогда его на это не хватало»15. Собрать все вместе - это не механический, а творческий акт; это и означает - по Товстоногову! - обрести художественную целостность.
Именно художественная целостность - точность, стройность и
12 Товстоногов репетирует и учит. С. 464-520.
13 Там же. С. 524-525.
14 Розовский Марк. Меня не поссорить с Товстоноговым!
15 Георгий Товстоногов. Собирательный портрет. С. 281.
Новый театр, старая сцена
ясность воплощенного замысла -для него высший приоритет, ради которого позволительно нарушить даже приоритет изначального режиссерского решения, то есть замысла недовоплощенного. Нарушить, не отличая своего от чужого.
По словам актрисы Елены Поповой, Товстоногов говорил (а ему об этом говорили его учителя), что «решение - "это то, что можно украсть". То есть когда видишь прием, ключ, которым можно открыть другие двери»16. Принадлежность Товстоногову этой формулы легитимного «воровства» подтверждают и режиссеры, в разные годы у него учившиеся, - Кама Гинкас (в беседе со мной) и покойный Вадим Голиков (см. его «Письмо студентам». «Звезда», 2007, №4). Решение не панацея, не гарантия режиссерского авторства. Режиссер-автор не тот, кто нашел ключ, а тот, кто способен наилучшим образом применить его. Воспользоваться чужим ключом, чтобы открыть свое, - не грех. Более того, тогда и ключ, в сущности бесхозный, становится собственностью того, кто открывает им «другие двери».
Когда на «круглом столе», приуроченном к 90-летию БДТ, я коснулся этой скользкой материи, Эдуард Кочергин неожиданно вспомнил, как в самом начале своего сотрудничества с Товстоноговым признался ему, что не очень понимает, что такое режиссер, какова, так сказать, философия этой профессии. Товстоногов ответил: «Философия режиссера -это философия крошки Цахеса: все, что вижу хорошего, - мое». Отшутился? Думаю, только отчасти. По сути ответ серьезен.
Теперь пора и об этике поговорить.
Этические нормы не абсолютны. Эрик Фромм разъясняет: есть «нормы универсальной этики, целью которых является развитие человека» («Не укради!», к примеру, - актуальная в нашем контексте заповедь). И есть нормы этики социально имманентной, «которые необходимы для поддержания и функционирования определенного типа общества».
Разумеется, социально имманентной является и этика профессиональная, театральная в частности. Нормы ее подвижны, противоречивы. «Поддержание и функционирование» общественного (театрального) организма далеко не всегда совпадают с «целью. развития человека». И вообще «существуют такие ситуации, которые по природе своей не позволяют принять однозначно правильное решение»17.
Товстоногов как руководитель неоднократно принимал или вынужден был принимать решения верные с одной стороны и сомнительные с другой. Он и сам признавал: «.с одной стороны, по-человечески, наверно, поступил гуманно и справедливо (не уволил, пожалел актера, который был ему не нужен, но которому не на что было жить. - В.С.), с другой точки зрения, я нанес зло делу. Это противоречие всегда меня мучит»18. Бывало и наоборот. Когда он поступал не «гуманно и справедливо», а с пользой для дела, какой она ему виделась. В конфликтных ситуациях с Сергеем Юрским, Владимиром Рецептером, Олегом Борисовым, Розой Сиротой принятые им решения тоже не были (и не могли быть!) однозначно правильными. Тут у каждого своя правда, свое чувство внутренней правоты,
в Там же. С. 238.
17 Фромм Эрик. Психоанализ и этика. М. 1993. С. 182-183.
" Георгий Товстоногов. Собирательный портрет. С. 481.
Pro настоящее
неподвластное основному этическому закону товстоноговского БДТ, декларированному на всех углах добровольному подчинению диктатуре.
Своя правда есть и у Розовского. Она заключается в том, что сила принуждения, примененная к нему, аморальна. Это позволяет ему не считаться с хроникой репетиций и показаниями свидетелей; независимо от фактов, подтверждающих значительность и целесообразность воздействия Товстоногова на конечный результат работы, Розовский остается его жертвой и, стало быть, в отличие от него, морально неуязвим.
Да, Розовский - жертва принуждения. Но и собственного заблуждения - тоже. Товстоногов превратил чужое в свое не только по праву силы. Сила права - художественного права, права мастерства и таланта - была за ним. В отличие от тех, кто узурпирует власть ради нее самой, он оставался в границах морали. Морали творческой.
«Творческая мораль, - писал Бердяев, - есть мораль призвания, она утверждает нравственный смысл призвания, она знает лишь индивидуальные пути. <...> И потому задача моральной оценки есть задача интуитивного вникновения в тайну индивидуальности, а не количественной моральной механики»19.
Когда советские держиморды закрыли студию Розовского «Наш дом», Товстоногов пригласил его, безработного и гонимого, поставить «Бедную Лизу». Этот жест солидарности - этический жест -Марк Григорьевич признательно помнит всю жизнь. Но в том случае от Товстоногова не требовалось сделать выбор между этикой
универсальной и профессиональной, между моралью общечеловеческой и творческой. Они совпали. А в случае с «Историей лошади» не совпали. Пришлось выбирать.
Спектакль, не приведенный к художественной целостности, остается полуфабрикатом, продуктом не-дорежиссуры. Товстоногов такие спектакли, сделанные не им, не раз дотягивал до приемлемого состояния. Иногда анонимно. Иногда тот, кому он помогал, на афише значился уже как его помощник, второй режиссер. А бывало - и рядом с его именем. На равных. С таким компромиссом был бы в конце концов согласен - от безвыходности - и Розовский (что видно из приведенного им разговора с Диной Шварц). Но для Товстоногова это было уже невозможно. Это был бы компромисс не столько с Розовским, сколько с самим собой как художником, который уже вдохновился многообещающим полуфабрикатом и почувствовал, понял, что сделает из него нечто такое, чего никто другой сделать не в состоянии. И тогда он пошел на принцип, не отвечающий «количественной моральной механике». Принцип таков: ссылки на профессиональную этику оправданием недорежиссу-ры служить не могут, эстетический полуфабрикат (да еще с таким уникальным потенциалом!) не отвечает этическим нормам театра.
«Художественная целостность спектакля» - излюбленный термин (и название книги) А.Д. Попова, который был прямым учителем Товстоногова. Дело, однако, не сводится к терминологическим предпочтениям определенной школы. Не будучи по школе мейер-хольдовцем, Товстоногов мог
19 Бердяев НА Философия свободы. Смысл творчества. М., Правда, 1989. С. 476.
Новый театр, старая сцена
бы подписаться и под словами Мейерхольда: «Режиссура есть искусство композиции плюс мастерство актера». Это ведь тоже формула художественной целостности. Формула профессии режиссера, какой она, эта профессия, возникла и развилась в ХХ веке.
В.Г. Сахновский заметил: Мейерхольд, в чьем понимании режиссер является автором спектакля, «нередко придает пьесе, которую считает одной из частей спектакля, совершенно новую трактовку; к нему переходит ряд функций драматурга»20.
Но это справедливо не только в отношении Мейерхольда. Просто он наиболее резко, демонстративно - с гениальной радикальностью - выражал природу режиссуры как таковой, природу авторскую, для которой поиск «совершенно новой трактовки» - объективная интенция. Немирович-Данченко, подчеркнуто прилежный в обращении с литературой, режиссер-исполнитель, истолкователь литературного текста, автором спектакля себя не называл, но все-таки был им (также и Товстоногов, даром что неустанно повторял: «Ты интересен только как истолкователь»21).
Исполнить, истолковать значит дополнить, наполнить собой,своим видением. Стать подлинным проводником автора-драматурга значит стать его соавтором: автором-режиссером (все остальное - недорежиссура). В ХХ веке «ряд функций драматурга» переходит к режиссеру уже только потому, что он, и только он, делит с драматургом ответственность за сверхзадачу (идею).
Режиссура как авторская профессия многим обязана новой драме, ее литературной технике, при которой
сверхзадача (идея) намеренно размывается, уводится в подтекст, растворяется в атмосфере действия. Показывая неявный трагизм жизни, трагизм, скрытый в ее повседневном течении, автор новой драмы (будь то Чехов, Стриндберг или Метерлинк) избегает прямоты и окончательности, не договаривает, предоставляет театру право договорить самому, расставить акценты, выразить то, что содержится за словами и между слов. Кто это может сделать, кроме режиссера-автора?! Новая драма решительно меняет представления практиков сцены о драматическом действии, композиции, соотношении героя и среды. Что постепенно сказывается и на интерпретациях старой драмы, вообще на языке театра: театр становится режиссерским. Возникает системное восприятие поэтики автора-драматурга (будь то Шекспир, Мольер, Гоголь или Островский) как поэтики сценической, как потенциальной режиссуры, которая содержится в литературном тексте, но которую автору-режиссеру надо выявить, вычитать в ее художественной целостности. И тем самым неизбежно отобрать у драматурга «ряд функций». Так Мейерхольд в своем известном докладе «Пушкин-режиссер» вычитывает-отбирает у Пушкина режиссерские указания: «Техника театра той эпохи не позволяла зазвучать пушкинским вещам так, как поэт их слышал. Поэтому замечания его по адресу актеров - то же самое, что мы, режиссеры, говорим актерам. Это не язык драматурга, это язык драматурга-режиссера22.
Обратим внимание: тот, кто первым стал «нескромно» именовать себя автором спектакля (Мейерхольд), хочет того же, что и «скромные» истолкователи (Немирович-Данченко,
20 Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. Выпуск 4. Редактор-составитель В.В. Иванов. М. 2009. С. 366.
21 Георгий Товстоногов репетирует и учит. С. 371.
22 В.Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М. 1968. С. 423.
Рго настоящее
Товстоногов), - чтобы вещи зазвучали «как поэт их слышал».
Обнаруживается и встречная тенденция: теперь уже драматург учитывает инструментарий, доступный режиссерскому театру (прежде всего монтаж, выразительные возможности пространства и времени). И тем самым берет на себя «ряд функций» режиссера. Особенно это заметно, когда он вступает в свободные отношения с мифологемой, с бродячим сюжетом. Или переиначивает - присваивает - классическую прозу, которую во времена театра дорежиссерского никому не пришло бы в голову рассматривать как объект постановки.
Вот и Марк Розовский в «Истории лошади» выступил как драматург, взявший на себя ряд функций режиссера. Режиссура заложена в самой пьесе: увидеть в совершенно, казалось бы, несценичном рассказе (и сделать из него!) музыкальную драму, где действуют люди-лошади, - это уже решение. Режиссерское решение-замысел автора-драматурга. (На афише под названием было набрано мелким шрифтом: «инсценировка М. Розовского», а следовало бы -над названием: «Марк Розовский. История лошади. По рассказу Льва Толстого "Холстомер"».)
Но полноправный автор спектакля, конечно же, режиссер Товстоногов. Только он.
Розовский - режиссер-самоучка (он и сам себя так называет). Отсутствие специального образования не помешало, даже помогло ему выразить себя как личность, склонную к совместительству разных творческих занятий. Он ведь не только режиссер и даровитый литератор; он и музыку сочиняет
(по слуху), и поет, и актерствует. В своих истоках это бьющее через край самовыражение - энергия самодеятельная. В 1960-е годы, в полупрофессиональной студии «Наш дом», Розовский как бы подхватил задорный лозунг молодого Мейерхольда: «Театр спасут дилетанты!». (Правда, Мейерхольд лукавил; по тактическим мотивам он мог «самовыражаться» как угодно, а высочайшим профессионалом был и в молодости.)
В терминологии Товстоногова режиссерское самовыражение - синоним самолюбования, самодемонстрации, которая неизбежно ведет к самоповторам, самоцитатам. К духовной самоизоляции. Себя можно выразить только через других и думать надо не о себе - только о пьесе, об актерах, о зрителях. О мире, который существует и без тебя. По Товстоногову, это вопрос мировоззрения, зрелости человеческого духа, но и зрелости профессиональной: режиссер-нарцисс - всегда дилетант.
В наши дни режиссерский дилетантизм, дилетантизм «самовыразителей», наступает широким фронтом и сознает себя как новая и передовая сила. В отличие от тех, кто прошел свой путь «от оттепели к маразму» (по маразматическому обобщению одной журналистки), это действительно сила. Сила самоуверенности, подкрепленная безотказным пиаром.Очевидный признак этой новой, «продвинутой» недорежиссуры - технологичность, занимательность внешней формы, то есть картинки, упаковки спектакля (о таком «прикиде» старая недо-режиссура и мечтать не могла). И тщедушие формы внутренней, то есть мысли и чувства, воплощенных в развитии, в логической цепи
Новый театр, старая сцена
событий. Налицо все тот же изъян: отсутствие художественной целостности. С той только разницей, что изъян теперь именуют завоеванием актуального театра.
Вопрос ставится так: какая, к черту, целостность?! В жизни, что ли, она есть? Почему же в театре должны соблюдаться нормы, нарушенные самой жизнью? В противовес охранителям (представителям культуры Два), чье сознание пропитано советскими фобиями и догмами реализма, явились люди свежие, по-европейски раскованные (представители культуры Один), и они утверждают: никаких норм! никаких заветов-запретов! все можно! все - игра! (Старая не-дорежиссура к такому тотальному пересмотру основ не призывала.) Ссылаясь на известную книгу Владимира Паперного «Культура Два», Кирилл Серебренников, режиссер, объявленный лидером своего поколения, сетует в интервью: «Мы полностью сегодня вступили в культуру два, и людям из культуры один приходится очень трудно. Когда Анатолий Васильев делал "Взрослую дочь молодого человека" и "Серсо", он предощущал наступление культуры два. А сегодня, когда он стал заниматься почти беспредметным искусством (ведь он для меня такой Кандинский от театра), он оказался не принят культурой два просто онтологически. Я сам пытаюсь встроиться в эту культуру два - что-то получается, что-то нет. Я, например, очень не люблю реализм, но понимаю, что людям, пришедшим в зал, обязательно надо считывать первый - реальный - план»23.
Действительно, хорошо бы считывать не только первый план, но и второй, и третий, если они в
спектакле наличествуют и с первым планом как-то согласуются. У Васильева (и у раннего, и у позднего, «беспредметного») все многоплано-во, неоднозначно, то есть художественно. Вот уж у кого всегда есть что считывать и разгадывать. Но дело не в новых и старых формах (и не в Васильеве, который давно доказал, что владеет и теми и другими). Не в новой и старой правде искусства. Не в том, что можно и чего нельзя. Дело вот в чем: то, что одному можно, другому - нельзя, любит он реализм или не любит. То, что один никогда не позволит себе нарушить как профессионал, уважающий себя и других, другой нарушает - от недостаточного умения. Можно в шутку сказать, что дело идет о культуре Три. Это культура безапелляционной поверхностности, которая готова, но не способна «встроиться» куда бы то ни было и просто меняет обличья в зависимости от того, куда дует ветер. Не отвечает сама за себя.
В «Мещанах» (1966) Товстоногов нарушил и все, что можно, и все, что нельзя (как тогда считалось). Принципиальным нарушением было то, что он мысленно соединил Горького с театром абсурда, выведя формулу будущего спектакля из реплики Нила: «Вы разыгрываете бесполезную драму под названием "Ни туда ни сюда"». Если в советской традиции пролетарий Нил выступал обличителем мещанских бытовых устоев, то Товстоногов, как пишет Елена Горфункель, «присоединился к Ионеско в его философии быта, присоединился к философии трагедии, вырывающейся из абсурда. Нил товстоноговских "Мещан" здравомыслен демонстративно, потому что абсурд трагичен, а
23 Серебренников Кирилл. Отработать карму до конца//Культпоход. 2009, апрель. С. 32. [Интервью Ольги Фукс.]
Рго настоящее
здравый смысл - нет. Часы, отсутствующие в ремарках у Горького, Товстоногов сделал таким же раздражающим лейтмотивом, как Ионеско в "Лысой певице"»24.
Время ни туда ни сюда, безразличное к желаниям и поступкам обитателей «вселенной одного дома», подчиняло их своему холостому ходу. И в результате сквозь заурядные события бытовой «бесполезной драмы» проступало событие незаурядное, бытийственное - абсурдная драма события. (Борис Зингерман проницательно заметил, что любой «товстоноговский спектакль строится как одно большое событие, состоящее из цепи событий, в котором герой, хочет он того или нет, крепко связан с другими»25.)
Ставя ту же пьесу в МХТ (2004), Кирилл Серебренников единую цепь событий не выстраивает, а игнорирует: никто ни с кем и ничто ни с чем не соединяется в буквальном смысле. Старики Бессеменовы живут сами по себе, молодежь - сама по себе. (Это режиссерская установка: актеры существуют в разных манерах.) Регулярно в действие вторгается «Пан-квартет», что-то играющий. Группа любителей в костюмах итальянской комедии масок изображает персонажей «Дон Сезара де Базана». В любовной сцене подошвы у Нила и Поли вдруг загораются синим пламенем (земля под ногами горит?). Слова - а у Горького их очень много, громада слов, - не важны. Пьеса не прочитана, а проиллюстрирована, разбавлена произвольно-игровыми зарисовками.
Сравнить бы запись репетиций тех «Мещан» и этих. Узнать бы, как режиссер, преподающий теперь в Школе-студии МХАТ, применяет
действенный анализ, как понимает терминологию Станиславского, пользуется ли ею вообще, а если она не нужна ему, то почему. Смею предположить, что передовой театр одаренного самоучки Серебренникова методологически окажется соприроден непередовому театру одаренного самоучки Розовского. Но последний, по крайней мере, никогда не занимал не своего места.
Сама идея поставить «Мещан» после Товстоногова (которая не приходила в голову никому в России почти сорок лет; никто не решался, тема казалась закрытой) должна же была нести в себе какой-нибудь след предшественника. Отрицание, преодоление, развитие - хоть что-нибудь должно же было наметиться, пусть только в замысле, пусть только в намерениях режиссера, мотивирующих его обращение к этому названию. Хоть что-то должно было связывать его с тем эпохальным спектаклем. Как были связаны - тоже сорок лет спустя - товстоногов-ские «Три сестры» с «Тремя сестрами» Немировича-Данченко. Или те же «Мещане» - двадцать лет спустя - с «Мещанами» Алексея Дикого (Малый театр, 1946). (Спектакль Дикого не дотягивал до трагедии абсурда, но и не исчерпывался лобовым столкновением «отцов» и «детей»; там и те и другие были фигурами страдательными, пытались и не могли друг друга понять. Товстоногов это запомнил и, по своему обыкновению, оттолкнулся от этого.) Нет, ничего подобного Серебренниковым предъявлено не было. Все с нуля. Точно так же и с его постановкой «Господ Головлевых». Как если бы до него на мхатовской сцене не было
24 Премьеры Товстоногова. М. 1994. С. 193.
25 Зингерман Б. Индивидуальность Товстоногова//Театр. 1987. №1. С. 52.
Новый театр, старая сцена
«Головлевых» Додина, Кочергина и Смоктуновского: что было, то прошло. Беспамятство как способ самодемонстрации.
На упомянутом выше «круглом столе», проходившем в БДТ в феврале 2009 года, Ольга Егошина, выступая вслед за мной, сопоставление Серебренникова с Товстоноговым назвала некорректным, поскольку они принадлежат к разным профессиям: один -постановщик, другой - режиссер. Но разве, будучи режиссером, Товстоногов не был и постановщиком? И разве Серебренников, сочиняя спектакли, не является коллегой Товстоногова по определению?! Я нахожу некорректным другое: снимать объективную остроту вопроса о произошедших за последние двадцать лет переменах в режиссерской профессии, о профессиональной мутации.
Судя по классическому репертуару, к которому обращается Кирилл Серебренников, судя по его публичным выступлениям, как правило, вполне достойным в общественном плане, субъективно он не является культурным нигилистом. Но объективно - является. Законы органического существования на сцене, почерпнутые Станиславским, можно сказать, в природе и, по убеждению того же Товстоногова, не зависящие от той или иной системы сценической условности, - не что иное, как воздух культуры. Профессиональной культуры театра. Понижая ее уровень, театр лишается и своего общекультурного назначения.
Воздухом культуры надо уметь дышать, и многие люди, в том числе Товстоногов, приложили немало
усилий, овладевая правильной постановкой дыхания. Правильно не значит одинаково. Эфрос и Товстоногов в этом отношении разительно отличались друг от друга. Додин, с его склонностью к эпическому объективизму, Товстоногову, на первый взгляд, ближе. Но только на первый взгляд. На самом деле у него другой режиссерский инструментарий. К этюдному методу, к бесконечным пробам, составляющим сердцевину исследовательской технологии Додина, Товстоногов относился прохладно. Как и вообще к элементам студийного коллективизма в профессиональном театре. В этом вопросе он следовал Немировичу-Данченко, а не Станиславскому. А Додин - как раз Станиславскому (находясь от К.С. - благодаря Б.В. Зону, своему непосредственному учителю, - на расстоянии одного рукопожатия). Но, так или иначе, для всех названных и многих не названных режиссеров, включая и великих оппонентов Станиславского, таких, как Мейерхольд и Брехт, следовать законам органического существования на сцене значит и воплощать органику историко-культурной преемственности. Органику бытия.
Испытание органичностью высшего порядка - главное испытание, с которым театр сталкивается и от которого часто уклоняется. В эпоху пиара и раздачи фестивальных призов, когда былая иерархия режиссерских авторитетов утратила твердый характер, любого, кто подступится к пропиаренному режиссеру с критерием высшей органичности (целостности), ждет обвинение в ограниченности, непонимании новой правды, правды актуального искусства. Но еще раз скажу: дело не в старой и новой
Рго настоящее
правде. А в том, что если соврешь на сцене в одной оценке, пропустишь другую, не зацепишься за партнера, неверно определишь задачу куска, то и в сверхзадаче (идее) будешь поверхностен и неточен. Во всем соврешь.
На чем держался режиссерский авторитет Товстоногова?
То, что он думал о жизни, то, что он хотел сказать со сцены, он сказать умел - точно и внятно. Владел профессией. И наоборот: от того, что он так хорошо владел профессией, творческим методом, мысли его обретали последовательный -мировоззренческий - характер.
Говоря о своих художественных принципах, он изъяснялся очень просто, почти тривиально. Вот, например. «Что такое традиция? Это опыт поколений, без которого нельзя сделать шага вперед. Нельзя провозглашать: "С меня все началось!" Это идиотизм. Но и нельзя жить только лишь восстановлением традиций. <...> Отказавшись от опыта поколений, ничего нового своего изобрести нельзя»26.
Ну, хорошо, нельзя. Кто бы спорил. Можно подумать, какие-то идиоты и в самом деле открыто провозглашают, что все началось именно с них.
Тем не менее, что бы он ни говорил, слова обретали многозначительность.
Умением наиграть многозначительность тяжеловесы советского времени владели без проблем: Завадский, Гончаров. Но Товстоногов, казалось, не наигрывал даже когда играл на публику. Почему так казалось?
Потому что он отвечал за свои слова.
Товстоноговский БДТ, с его «динамическим академизмом» (определение Юрия Рыбакова), называли Художественным театром своего времени. В наше время таким театром, где динамический академизм утверждают последовательно и убедительно, является Малый драматический -театр Льва Додина. О нынешнем МХТ этого сказать нельзя. Методология, незыблемая для Товстоногова, Ефремова, Додина, здесь остается насущной разве что для историков, изучающих прошлое Художественного театра. От практиков, определяющих лицо МХТ сегодня, этих уважаемых историков отделяет - в буквальном смысле - лишь одна стена. Но эта стена - глухая. По одну ее сторону занимаются одним делом, по другую - другим, в сущности противоположным.
К аномальному единству противоположностей Художественному театру, конечно, не привыкать. Как и всем нам. МХТ - наше все, он все вместить в себя может. Но у каждого времени - свой «театральный роман», и особенность того «романа», который разворачивается у нас на глазах (в отличие от конца 1980- х -начала 1990-х; тогда, по крайней мере, была надежда), определяется релятивизмом и безразличием, пронизывающим жизнь общества в целом и театрального сообщества в частности. Общество не знает и не желает знать, кому оно наследует - Пушкину или Сталину. Оно всеядно. Но и театр не помнит собственного прошлого, даже недавнего. Себя не помнит.
Режиссеры-ньюсмейкеры первого десятилетия XXI века, как правило, очень хорошо устанавливают
26 Георгий Товстоногов репетирует и учит. С. 57.
Новый театр, старая сцена
горизонтальные культурные связи, связи между коллегами-современниками. Они прекрасно знают, что сегодня «носят». Чем захватывают публику Марталер и Касторф, Люк Бонди и Робер Лепаж. И берут у них - кто что может и кто как хочет. Иногда, как у Андрея Жолдака, эта осведомленность, готовность пользоваться заемными изобретениями проявляется на грани приличия, то есть без всякого переосмысления того, что один режиссер «одолжил» у другого (украсть надо уметь - сказал бы Товстоногов). Но сама тенденция, с моей точки зрения, не предосудительна: сосуды современной культуры должны сообщаться. Так и раньше было, несмотря на «железный занавес». У Эфроса в «Вишневом саде» есть цитаты из Джорджо Стрелера. На ефремовского «Иванова» оказал влияние «Иванов» Отомара Крейчи. Товстоногов стал вводить в свои спектакли элементы брехтовской эстетики после того, как в БДТ побывал Эрвин Аксер. А «Смерть Тарелкина» многим обязана «Свадьбе Кречинского» Владимира Воробьева, товстоноговского ученика, который раньше своего учителя догадался драматизировать «несерьезный» музыкальный жанр.
Но наряду с горизонтальными эстетическими связями Товстоногов всю жизнь занимался и вертикальными: улавливал, впитывал воздух культуры прошлого. Чужого, но не чуждого. Далекого, но близкого. И в лучших, и в худших его спектаклях, в его философии театра, практической философии динамического академизма, концы и начала театральных эпох друг другом проникнуты, существуют симультанно. Преодолеть не значит покончить, забыть. Преодолеть значит
постигнуть, развить. Дьявольская разница в сравнении с философией театра исключительно горизонтальных связей.
Первым, кто обратил внимание на особый характер переимчивости Товстоногова и объявил, что она законна, был Павел Громов. Рецензируя в 1955 году «Оптимистическую трагедию» в ленинградском Театре драмы имени А.С. Пушкина, эту, на первый взгляд, копию довоенной постановки Таирова, критик отметил, что «в плане внешнего своего облика, в плане театральной технологии (не только в оформлении, но и в принципах построения мизансцен, в манере игры) оба спектакля <...> очень сходны между собой», а содержательно - несходны: это «разные произведения театрального искусства»27.
В произведении Таирова, как говорил он сам, обращаясь в декабре 1932 года к труппе Камерного театра, главное - борьба «двух стихий: центробежной и центростремительной». Первую, несущую хаос, представляет матросня; вторую - Комиссар, в чьем лице «сосредоточена сила партии, ее умение <...> привести хаос в гармонию»28. Адаптируясь к коммунистической риторике, к советской действительности, Таиров все же держался своей неизменной художественной позиции, от какой бы то ни было действительности отвлеченной, абстрагирующей ее. По Таирову, привязанность к исторической и социально-психологической конкретике угрожает правде театра, влечет за собой характерность, особенно нетерпимую для трагедии, заземляющую
27 Премьеры Товстоногова. С. 57-58.
28 Таиров А.Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М. 1970. С. 349.
Рго настоящее
ее дух, дух высокого обобщения и высокой предопределенности. Борьба гармонии с хаосом, извечная борьба аполлонического и дионисийского начал, призывает трагического героя к нечеловеческому напряжению личной воли, концентрируется в ней, но исход борьбы разрешается - предопределяется - волей надличной, которая героем руководит. Поэтому и моральная победа Комиссара -обуздание, перевоспитание матросни - для Таирова прежде всего победа надличной воли, торжество идеальности, некой «прекрасной ясности», хоть коммунистической ее называй, хоть аполлонической.
У Товстоногова мотив надличной воли значения не имел. Никакой борьбы стихий! Не обуздание, не перевоспитание, а пробуждение, прозрение, самостоятельный нравственный выбор личности. От чего только и зависит ее моральная победа, победа прежде всего над собой. Это лейт-тема его спектакля, который мог бы называться «Обыкновенная трагедия». В трагических обстоятельствах обыкновенный человек противостоял обыкновенному человеку. Тот, кто хотел решать за себя, - тому, кто хотел решать за других. Потому и сами эти обстоятельства, отдаленные во времени, публика 1955 года переживала как насущные, актуальные, неожиданно соразмерные ее собственному опыту. Опыту бесправия, подавленности, немоты - подзапретнос-ти личного выбора (и в частности личного отношения к истории). Опыту советских людей, на трагизм которого даже намекать не дозволялось.
Пространство трагедии, очищенное у Таирова от всего слишком
личного, Товстоногов заимствовал с противоположной целью.
Таиров говорил - «сила партии», а подразумевал - сила гармонии, театра, искусства. Другой центростремительной силы, другой «прекрасной ясности» он в сущности знать не хотел. Буквальный смысл политических акцентов пьесы Вишневского не затрагивал его глубоко. Не мешал требовать от актеров все той же чистой - внебытовой, вневременной - эмоциональности, какая отличала Камерный театр всегда. Товстоногов же, где только мог, политические акценты из текста пьесы вычеркивал. Или редуцировал так, чтобы они не играли заметной роли в построении эпизода, в его психологическом движении. А когда не вычеркивал и не редуцировал, то стремился вложить в ходульные слова, во всю эту «силу партии», человеческий смысл, отвечавший конкретно-историческому моменту, моменту надежды.
Это был один из первых спектаклей хрущевской оттепели, эпохи дозволенных надежд и по-прежнему недозволенного историзма: связи с реальной историей были оборваны. Но Товстоногов уже тогда начал их восстанавливать. Не скажу - с историей страны, какой она была в реальности. Но во всяком случае - с реальной историей театра. Объективно сам факт эстетической реинкарнации Таирова, погубленного вместе с Камерным театром, сам факт сопряжения круга мыслей одного режиссера и другого, при том что по группе театральной крови они не совпадали, противостоял насильственному забвению, несправедливости. А это куда важнее, чем группа крови.
В том спектакле Товстоногов Таирова продолжил. Продолжил
Новый театр, старая сцена
диалектически - внутренне отрицая. При этом попутно легализовал ту линию, условно говоря условного театра, которая другим режиссерам, и прежде всего Юрию Любимову, была гораздо ближе, чем ему самому: от «Оптимистической трагедии» до «Десяти дней, которые потрясли мир» расстояние небольшое.
Ну, ладно. Приняли к сведению. А зачем? Для чего сегодня раскапывать эти останки советского, очень советского театра? Для чего разбираться в оттенках сознания, изувеченного советским, очень советским изоляционизмом?!
Отвечаю.
Чтобы помнить. И не впасть в новую, постсоветскую самоизоляцию.
Мысленно перебирая спектакли Товстоногова, задумываешься о том, как интенсивно работала его культурная память. Как естественно она включалась в творческий процесс, помогая художнику превозмогать вмененное ему беспамятство хомо советикуса.
Культурная память определяла «неявную новизну» его искусства.
«Варвары», выдающийся спектакль, резко уходивший в прочтении Горького от псевдоромантической традиции, многим обязаны «Дачникам» Лобанова, у которого фарсовые мотивы тоже были неотделимы от трагических. Лобанов, режиссер, недооцененный при жизни (но только не Товстоноговым), - предвестник того неореализма, который стал сценическим стилем раннего «Современника» и первых спектаклей товстоноговского БДТ. Так что и «Пять вечеров» в известной мере обязаны ему.
Лобанов, как и А.Д. Попов, был учителем Товстоногова. В этом случае творческая работа памяти объяснима прямым родством. Даже когда мы преодолеваем своих учителей, мы с ними сверяемся и продолжаем их. Это нормально. Ненормально - прямого родства не помнить. Но Товстоногов помнил и непрямое, дальнее родство. Рачительно распоряжался наследством могучей режиссерской плеяды первой половины ХХ века. Порой достигая в этом не только неявной, но и явной новизны.
Цитируя и по-своему осмысливая чужое, он постоянно демонстрировал несходство сходного. Это свойственно всем его заимствованиям, открытым или скрытым. Но вот пример более сложного соотношения, которое указывает на сходство несходного:
Товстоногов впитал и соединил в своем художественном опыте опыт двух режиссеров, как бы противопоказанных друг другу. Это Немирович-Данченко и Мейерхольд, учитель и ученик, восставший против учителя.
В «Иркутской истории» (1959) -раскавыченная и, как всегда у него, переосмысленная цитата из мейер-хольдовской «Дамы с камелиями» (1934)29. Это, впрочем, мелочь, одна мизансцена.
На «Горе от ума» (1962) Мейерхольд воздействует серьезно. Об этом свидетельствует - невольно - даже Борис Алперс, который не принимает спектакль БДТ как раз потому, что видит в нем неправомерный отказ (только отказ!) от Мейерхольда. В 1928 году, как пишет критик, Мейерхольд впервые на русской сцене «вывел действие комедии далеко за пределы фа-мусовской Москвы <...> на более
29 См.: Голиков Вадим. Письмо студентам.
Pro настоящее
широкие исторические простран- репетиловых. Как, впрочем, и дека-ства <...>. Он создал обобщенные бристов. Товстоногов отказывает социальные маски <...>. Этому Чацкому в декабризме, которым царству автоматов противостоял наделил его Мейерхольд в первой в спектакле Чацкий-мечтатель, в редакции своего спектакля. Пишет котором <...> сплетались черты в экспликации: «Мне кажется оши-русских революционеров-роман- бочной трактовка Мейерхольда». тиков ранней поры - Бестужева, Не надо «доводить до сведения Рылеева, Александра Одоевского зрителя, что Чацкий принадлежал и молодых поэтов блоковского к тайному обществу. От этого толь-склада». К чудовищам, «которые ко поднимутся требования к нему, обступали Чацкого со всех сто- а действует он в сценических усло-рон», Алперс причисляет и «пре- виях так же, как и не декабрист»31. дательницу» Софью, «своего рода Но, насыщая роль Чацкого и всю рептилию». А БДТ уходит от мейер- пьесу историческим опытом 1962 хольдовской - и грибоедовской - года, он не ломает, а развива-поэтики борьбы, размывает цель- ет традицию: мейерхольдовская ное и страстное противостояние сверхзадача - выйти «на более героя его отвратительной среде: широкие исторические простран-«у Чацкого отнят высокий интел- ства» - остается в силе. И не только лект и несгибаемая воля»30. сверхзадача. Чацкий у него так же Действительно, Товстоногов доверчив, светел, открыт душой -представляет Чацкого (Сергей влюблен! - и так же беспокоен и Юрский) героем рефлексирующим, для окружающих невыносим, как и незащищенным - сгибаемым - и в у Мейерхольда. Мейерхольд гово-пушкинском смысле не очень ум- рит на репетициях (вторя Аполлону ным (мечет бисер перед репетило- Григорьеву): «Вся комедия есть ко-выми - Пушкин считал). Режиссер медия о хамстве, к которому <...> приближает его к своим современ- спокойного отношения незаконно никам, героям своего безгерой- и требовать от такой возвышенной ного времени, которым сегодня натуры, какова натура Чацкого»32. (но не только сегодня - всегда) Софья (Татьяна Доронина) у свойственно и не сдержаться, бро- Товстоногова - тоже предательни-сить (да хоть бы и репетиловым) ца, хотя мила и очаровательна. Да всердцах, в порыве обманутых ведь и Софье-Зинаиде Райх далеко чувств: «Черт догадал меня родить- до «своего рода рептилии»; тут ка-ся в России с душой и талантом!». кой-то критический казус «своего По Алперсу, Чацкий не Жадов, он рода». Впрочем, стоит заметить, что не может «спотыкаться, падать и наши старые критики, и Алперс не горько рыдать над собственной исключение, прежде чем дать свое судьбой». По Товстоногову - мо- отношение к спектаклю, добросо-жет. Многие герои века и споты- вестно, точно, объемно передают кались, и падали, и рыдали. В том и его фактуру, и его режиссерский числе, «революционеры-роман- замысел; выводам Алперса можно тики», каким был Мейерхольд, и не доверять, но в его описаниях, поэты - и критики - «блоковского как правило, можно не сомневать-склада», каким был Алперс. Но это, ся. Вот и на сей раз он добросове-по Товстоногову, не сделало из них стно констатирует «фантастичность 30 Алперс Б. Театральные очерки: В 2-х томах. М. Т. 2.1977. С 432-439. 3' Георгий Товстоногов. Собирательный портрет. С. 455. 32 В.Э. Мейерхольд. Указ. соч. С. 163.
Новый театр, старая сцена
мечущейся толпы», гротеск «уродливых масок из папье-маше», эксцентризм манеры Юрского. И не замечает, что все это - не что иное, как «театр социальной маски», идущий от Мейерхольда. С той только поправкой, что социальные маски с мейерхольдовских времен изменились. И еще одного он не замечает. Товстоногов, показывая вместе с Юрским «спотыкающегося и падающего» героя, реанимирует ту эксцентрическую - мейерхольдовскую - школу, конец которой Алперс поспешил объявить еще в 1936 году.
Отклик Алперса на «Горе от ума» впервые напечатан в журнале «Театр» (№ 6, 1963). Вскоре в том же издании (№ 10, 1963) Зингерман пишет о Юрском, сыгравшем Дживолу в «Карьере Артуро Уи» (спектакль Эрвина Аксера в БДТ). Компактный портрет актера в одной роли выходит за ее пределы (что и подобает критику высокого класса) и содержит в себе непрямую, но внятную полемику с Алперсом. Юрский напоминает Зингерману «наших лучших эксцентрических актеров - молодых Гарина и Ильинского, с их красноречивой и загадочной пластикой; но в Юрском есть еще и глубокий психологизм, и экзальтированная нервность - черта его собственного творчества». Эта мысль направлена и в защиту творчества Товстоногова. Ведь Юрский в те годы становится протагонистом БДТ, важнейшим для него актером, способным выразить «драму людей, слишком наблюдательных и ироничных, чтобы быть деятельными, и слишком темпераментных и деятельных по натуре, чтобы довольствоваться ролью наблюдателей».
Очень важно, что Зингерман едва ли не впервые ставит молодого актера в исторический ряд; он - продолжатель. Кроме того. Эксцентризм, оказывается, вполне совместим с «личной темой». (По Алперсу, это не так. Эксцентрическая школа для него - школа «незаинтересованного» мастерства.) На примере БДТ и, в частности, Юрского можно развернуть (чего Зингерман не делает, но как бы подсказывает) мысль о том, что «представление» и «переживание» вовсе не так враждебны друг другу, как нас уверяли на протяжении десятилетий. Важно и то, как младший по возрасту критик ведет себя в отношении старшего. Он тверд, принципиален, но и деликатен. Это разговор людей одного круга, высшего круга журнала «Театр».
В «Ревизоре» мейерхольдовского тоже много. О подмене Хлестакова куклой я уже упоминал. Добавлю и пенснеОсипа-Юрского;оно перекли-каетсясочкамиХлестакова-Гарина, чья инфернальная тема - в сниженном, пародийном виде - Осипу передоверена. Громов замечает (на сей раз, правда, неодобрительно): «Товстоногов "списывает", доводя до неузнаваемости. Вот если городничий был интеллектуальным, утонченным у Мейерхольда, то в БДТ городничий - хам, но с оправданием его»33. Подобные ассоциации, субъективные и не очень, на других «Ревизорах» (у Валентина Плучека, например, - даром что он был мейерхольдовский ученик) не возникали при всем желании. То, что Товстоногов «списывает», сам же Товстоногов и подсказывает. «Списана» и общая идея: мейерхоль-довская идея всеохватного страха, искореняющая прилипчивую во-девильность, общераспространенную поверхностность прочтений
33 [ромов ПЛ. Написанное и ненаписанное. М. 1994. С. 307.
Рго настоящее
Гоголя. Товстоногов говорит актерам БДТ: «Надо забыть, что играем комедию», почти дословно повторяя Мейерхольда: «Направление -трагедия». Кстати, и Немирович пишет о страхе как главнейшем импульсе пьесы. Что неудивительно: все трое ищут режиссерские указания у автора-драматурга, а не навязывают ему свои.
С Мейерхольдом Товстоногова сближает и тема Петербурга. Работая с Валерием Ивченко над ролью Тарелкина, которая обычно предназначалась характерному комику, он сообщает персонажу - в мейерхольдовском ключе - демонический масштаб. Н.П. Акимов, его предшественник в интерпретации и Сухово-Кобылина, и Салтыкова-Щедрина, скептичен и даже презрителен ко всякому демонизму. Всему, что претендует на всеохватный, подавляющий человека масштаб, он отказывает в серьезности. Акимов недоверчив к любому пафосу. Товстоногов - вслед Мейерхольду - далеко не всегда. Патетическая изнанка сатиры у него ощутима даже в «Балалайкине». Но Товстоногов не был бы самим собой, если бы следовал только за кем-то одним. К мейер-хольдовским краскам он примешивает и акимовские. Когда, к примеру, в той же «Смерти Тарелкина» - в лице Брандахлыстовой и ее дочерей - дает Петербург не зловещим, а жалким, шарманочным. Поэтому у Товстоногова и Мейерхольд, и Акимов, и кто угодно как бы только просвечивают, мерцают, не на себя работают, а на него. Петербург волнует его и в некоторых других работах вплоть до предсмертной, сделанной из последних сил, - «На дне». Здесь он переносит действие в петербургский
двор-колодец, так что горьковские картины и персонажи, возникающие из темноты (какими их увидел и замечательно описал Борис Тулинцев), - и Настя, «в прошлом Сонечка Мармеладова», и Сатин, «лишенный мхатовского прекраснодушия», и все прочие тени - пропитаны чувством бездны: чувством Достоевского и Блока. И, добавлю от себя, Мейерхольда. «.солнце всходит и заходит - а солнца нет. Есть черная дыра, внезапно возникающая бездна, и уже непонятно, где мы: на улице, на дне, у себя дома или в театре на Фонтанке, на том или ином свете.»34.
Теперь посмотрим, что его связывает с Немировичем-Данченко.
В «Трех сестрах» деревьями, взятыми из декорации Дмитриева, дело не ограничивается. Весь спектакль проникнут благодарным воспоминанием о знаменитом мхатовском спектакле 1940 года и вместе с тем настаивает на полемическом сопоставлении с ним. Свойство, сближающее их, -необычайно подробная разработка режиссерской партитуры, сосредоточенность на «маленьких радостях, мельчайших мелочах, в которых пульсирует жизнь». Жизнь достойных, одухотворенных людей. Жизнь, обреченная гибели. Но, в отличие от Немировича (и, добавлю, от Эфроса), Товстоногов не сочувствует этим людям, а судит их слишком трезвую обреченность, их неспособность и нежелание хотя бы попытаться изменить ход времени. Время здесь не зависает (это не «Мещане», где оно ни туда ни сюда), его медлительнность обманчива и угрожающе целенаправленна - гибели навстречу, а персонажи пребывают в том состоянии, которое сам Товстоногов безжалостно
4 Премьеры Товстоногова. С. 347.
Новый театр, старая сцена
определяет как «духовный, нравственный паралич».
Ставя спектакль в 1965 году (бесслезно прощаясь с последними иллюзиями оттепели), он, конечно, отталкивается от «Трех сестер» 1940 года (от их согревающей душу мужественной лирики). Как и Немирович-Данченко отталкивается тогда, в 1940-м, от «Трех сестер» года 1900-го, не отягощенных опытом ХХ века.
Это не имеет ничего общего с тем, когда режиссер говорит себе: а, вот тогда было сделано так, значит, у меня будет по-другому. Просто чтобы сделать наоборот. Это сложный процесс приращения смысла, прорастания новой целостности, которая рождается вследствие, но и вопреки (всегда вопреки) действительности разрывов и зияющих высот. Это изъявление художественной воли, воли Товстоногова, - но и встречной, зрительской воли понимания, - в исторической перспективе связующей 1900-й, 1940-й и 1965-й.
Во многих его спектаклях присутствует персонаж-рассказчик: лицо от автора, лицо от театра. Посредник между сценой и залом. Записанный на пленку голос Смоктуновского в «Поднятой целине», самого Товстоногова - в «Хануме». Или комментирующий действие Хор в «Истории лошади». Или такой посредник, который зримо вторгается в далекие события собственной молодости, оставаясь незримым для других персонажей этих событий (Ефим Копелян, а после его смерти Кирилл Лавров в «Трех мешках сорной пшеницы»).
Ставя «Три мешка.», повесть Владимира Тендрякова, Товстоногов стремится представить на сцене именно прозу, а не пьесу. Такое стремление параллельно с
ним возникает у Юрия Любимова. Позднее - у Камы Гинкаса и Льва Додина. В меньшей степени - у Петра Фоменко («Пиковая дама», «Война и мир. Начало романа»).
Здесь не место углубляться в анализ этой тенденции. Заметим только, что она свидетельствует о все большей ненасытности режиссерского театра: автор-режиссер отбирает у автора-драматурга уже не «ряд функций», а все. Даже Мейерхольд на такое не решается.
А Немирович-Данченко решается. И Товстоногов делает свои «Три мешка.» (1974) с оглядкой на его «Воскресение» (1930).
Немирович пишет: «Раскольников (автор инсценировки - В.С.) принес "Воскресение" без роли от автора, я сказал, что простая переделка меня не интересует. Он переделывал 4 раза и все-таки не схватил сущности. Доделали мы сами. Весь смысл: чтобы был именно роман, чтобы дух Толстого <.> наполнял зал. Лицо от автора и рассказывает, и негодует, и издевается, и сочувствует. Лучшие страницы романа в его руках. <.> Нехлюдов один. Он курит, лежит, играет на фортепьяно, ходит, говорит, волнуется, плачет. Но всю его роль рассказывает Качалов, тут же, около него находящийся или переходящий с места на место»35.
Чтобы пробиться к «духу Толстого», к его естественности, востребована откровенная театральная условность - остранение.
Немирович-Данченко, человек толерантный и выдержанный, смолоду приверженный либеральным ценностям, органическому для него двуединству общественного служения и нравственного совершенствования, своих духовных
35 В.И. Немирович-Данченко. Творческое наследие: В 4-х томах. Т. 3. Письма. <1923-1937>. М, 2003. С. 268-269.
Рго настоящее
ориентиров, своих жизненных правил никогда не менял. Ход его биографии - образец постепенности и, можно сказать, степенности - всегда подчинялся главнейшей заботе: культурному строительству.
В декабре 1917 года он напоминает членам Товарищества МХТ: Художественный театр - прежде всего, «культурное учреждение». Это формула противодействия тем силам, которые изнутри подтачивают театр. В частности, такой силой ему видится студийная молодежь, с ее малоуправляемыми экспериментами, с ее непомерным, как он считает, увлечением системой Станиславского. Прав он или не прав, опасаясь слишком широко распахивать двери МХТ перед новыми людьми, - вопрос специальный. Сейчас нам важнее, что главенство культурной миссии театра он подчеркивает как раз в преддверии разлома культуры. Масштабы варварства, которое вскоре охватит Россию, Немировичу пока еще невнятны. Но и позднее в трагедии бесповоротного разрыва общества с прошлым он отказывается расслышать приговор своему прошлому, своему общественному делу, делу всей жизни. Он может - в письмах Качалову или Бертенсону -со сдержанным неприятием комментировать действия властей, но эсхатологическая интерпретация происходящего не в его духе. В отличие от Станиславского, он не уклоняется от социальной действительности и не делает вид, что не понимает ее. (В этом отношении любопытно проследить, как меняется стилистика его писем,обращенных к власть имущим, особенно тех писем, в которых он заступается - имеет мужество заступаться - за арестованных. В
1921 году он пишет в Особый отдел ВЧК, хлопоча о судьбе артиста оперетты В. Щавинского, только что сыгравшего у него в «Дочери Анго»: «Мы боимся, что он находится в тяжелых условиях, может быть даже в условиях определенного гнета»36. Но вскоре столь наивные, старорежимные обороты уступят место более адекватной стилистике. В условиях сталинщины, принужденный лавировать и адаптироваться, он проявляет необычайную для художника старой школы изворотливость, способность находить общий язык с властями, но хотя он и становится (как сказал Анатолий Смелянский - о Товстоногове) «государственным режиссером», в нем все-таки не прекращается та интенсивная внутренняя работа, в силу которой художник побеждает в себе заложника обстоятельств.
Типологически Товстоногов очень напоминает Немировича. И как изворотливый, достаточно компромиссный, но и дальновидный культурный политик, умело отличающий стратегические задачи от тактических. И как человек, чья любовь и привычка к комфорту не имеет ничего общего с потребительским, духовно вялым существованием. И наконец как художник. По наблюдению Елены Горфункель, Товстоногова как художника охотнее всего приписывают к наследникам Немировича-Данченко, имея в виду общее для них качество: «оба не открывали новых путей, но разрабатывали дороги, намеченные новаторами». Это несомненно так. Добавлю только, что эти дороги ведут к перекресткам, о которых сами новаторы могут и не подозревать.
Мейерхольд - антипод Немировича. Гениальный новатор, он постоянно меняет курс, не боится
ж Вл.И. Немирович-Данченко. Творческое наследие. Письма <1908-1922>. С. 617.
Новый театр, старая сцена
идти на разрыв ни с самим собой, ни с кем угодно. В первые поок-тябрьские годы, в период своего «комиссарства», он воюет с Немировичем, с этим идеологом «культурного учреждения», с этим недобитым «врангелевцем», опоздавшим вместе со своими буржуазными зрителями «на последний пароход в Константинополь», с этим «заведующим литературой», апологетом «литературности», страшно далеким от донкихотов «театральности» (читай: Станиславского и самого Мейерхольда).
Это навет - и политический, и эстетический. Но вот что важно в нашем контексте: нападая на Владимира Ивановича, Всеволод Эмильевич невольно и против себя грешит. Потому что он такой же мнимый враг литературности, как Немирович - мнимый враг театральности.
Русская режиссура ХХ века открывает в литературе такие смысловые уровни, какие прежде бывали скрыты и от самых внимательных читателей. Это урок нам.
В наши дни, благодаря подвижническим трудам Ольги Радищевой, Инны Соловьевой - с одной стороны (со стороны Немировича), и Олега Фельдмана и его сотрудников - с другой (со стороны Мейерхольда) введен в обиход целый ряд фактов, прежде недоступных или извращенно толкуемых. В результате становится очевидной необходимость исследовать картину взаимоотношений двух крупнейших деятелей русского театра во всей ее полноте и динамике. Такое исследование имело бы не только познавательно-биографический, но и актуальный эстетический смысл. Идеи, которые современникам кажутся
полярными, в исторической перспективе нередко работают сообща, дополняя друг друга и обогащая нас. Надо только уметь расслышать эту перекличку идей. Товстоногов умел. Обладал историческим слухом. И выходит, что собственной практикой, скрещивая, казалось бы, параллельные траектории -траекторию Немировича и траекторию Мейерхольда, - до известной степени предвосхитил ту работу, которую в XXI веке сделать лишь предстоит.
Он умел отвечать запросам своего времени, и конъюнктурным в том числе. Но умел и противостоять им. Противостоять моде (Вахтангов говорил: всякая мода -пошлость, пока она не прошла). Противостоять беспамятству: как художник, мастер. Пусть он и не был смолоду так воспитан и так заряжен великолепным презрением, как Акимов, прямой наследник петербургской художественной школы Серебряного века. Но, постоянно работая над собой, сумел осознать себя - сделать себя - и наследником, и посредником. Миссионером, «собирателем русской театральной культуры».
Задумываясь о роли - миссии -Товстоногова в послевоенной культуре, Борис Зингерман писал, что «когда возникла опасность разрыва с художественной традицией - наряду с потребностью ее решительного обновления, -Товстоногов первый нашел связующую нить между предшествующей театральной культурой, которая к тому времени стала уже восприниматься как культура традиционно академическая, и новаторскими исканиями послевоенного поколения. <...> Между традицией - и более того,
Рго настоящее
академизмом - и новаторством в спектаклях Товстоногова не бывает распрей.»37.
Такой образ Товстоногова представляется более объемным, более историчным, нежели образ государственного режиссера с «гертрудой» на лацкане и фигой в кармане.
Понятие «самовыражение», которое Товстоногов употреблял только в негативном смысле, в 1960-1970-е годы было в ходу, и многим (в том числе, и мне, дебютанту 1970-х) казалось, что оно несет в себе смысл передовой, какой-то протестный.
Воспитанный в любви и почтении к БДТ, я по многу раз пересматривал и «Мещан», и «Горе от ума», и «Цену». И когда выходила новая премьера, ездил в Питер из Москвы за свои тринадцать несчастных студенческих рублей, надеясь оказаться в числе обладателей лишнего билета. А несколько позже, уже работая в журнале «Театр», - и в числе удостоенных благосклонности Дины Морисовны.
Но к любви и почтению примешивалась досада.
Старшие критики, авторитетные шестидесятники (Крымова, Свободин, Рыбаков.), ездили только в БДТ. Ну, иногда еще в Ленсовета, на Алису Фрейндлих. Ну, еще в ТЮЗ, к Корогодскому. Но БДТ в их сознании затмевал все остальное, все живое и новое в театральном Ленинграде. Почти никому из них не было дела до того, что в театрах областной судьбы появились люди необластного масштаба: Воробьев, Голиков, Малыщицкий, Опорков, Падве, Шифферс, Гинкас и Яновская, Дворкин, Додин. Эту
разномастную поросль певцы Большого драматического воспринимали (так нам казалось) как режиссерскую массовку, заведомо обреченную оставаться в тени могущественного мастера. Мы, молодежь журнала «Театр», внутренне противились дискриминации молодых режиссеров и, насколько хватало сил, отстаивали их - и свое - право быть самими собой. Право на самовыражение. Сил не хватало. Как и ума. Отчего порой и воротило от тех ретроградных банальностей, которыми нас потчевали с Фонтанки. Особенно от этой, возмутительной: надо верно прочитать - вскрыть, как Товстоногов говорил, - содержание пьесы, тогда и личность режиссера, если она есть, проявится, а специально «самовыражаться» не надо.
То есть как не надо? Это в передовой газеты «Правда» не надо. А мне-то - еще как надо!
Потому что я - это я!
Прошло много лет. И теперь я думаю, что те слова его не банальны и не возмутительны, а просто верны. Всегда верны. Как слова Ходасевича: «Я, я, я. что за дикое слово! Неужели вон тот -это я?». И теперь, пытаясь распутать жизнь, где «своих же следов не найти», улавливаю голос, зовущий превозмочь чувство потерянности. Голос Товстоногова. Сдержанно патетичный, проникновенный, обволакивающий, объемлющий пространство Авлабара и уводящий в иные пределы, где память сердца и память культуры не знают различий между собой: «Только я глаза закрою - предо мною ты встаешь.».
7 Зингерман Б. Указ. соч. С. 5





 CC BY
CC BY 114
114