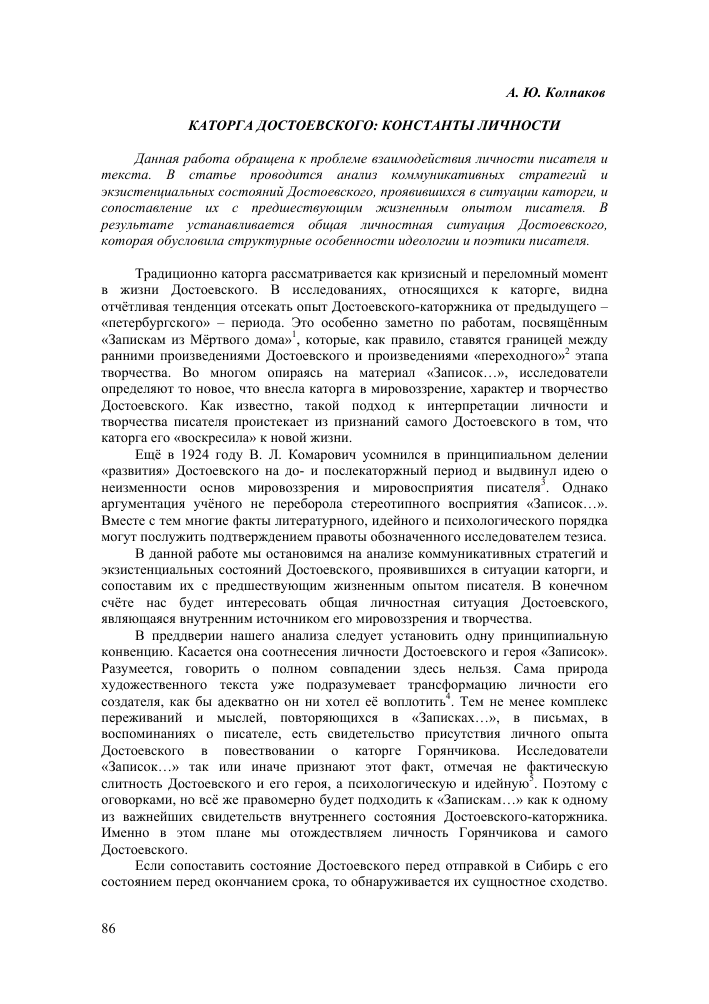А. Ю. Колпаков
КАТОРГА ДОСТОЕВСКОГО: КОНСТАНТЫ ЛИЧНОСТИ
Данная работа обращена к проблеме взаимодействия личности писателя и текста. В статье проводится анализ коммуникативных стратегий и экзистенциальных состояний Достоевского, проявившихся в ситуации каторги, и сопоставление их с предшествующим жизненным опытом писателя. В результате устанавливается общая личностная ситуация Достоевского, которая обусловила структурные особенности идеологии и поэтики писателя.
Традиционно каторга рассматривается как кризисный и переломный момент в жизни Достоевского. В исследованиях, относящихся к каторге, видна отчётливая тенденция отсекать опыт Достоевского-каторжника от предыдущего -«петербургского» - периода. Это особенно заметно по работам, посвящённым «Запискам из Мёртвого дома»1, которые, как правило, ставятся границей между ранними произведениями Достоевского и произведениями «переходного»2 этапа творчества. Во многом опираясь на материал «:Записок...», исследователи определяют то новое, что внесла каторга в мировоззрение, характер и творчество Достоевского. Как известно, такой подход к интерпретации личности и творчества писателя проистекает из признаний самого Достоевского в том, что каторга его «воскресила» к новой жизни.
Ещё в 1924 году В. Л. Комарович усомнился в принципиальном делении « развития» Достоевского на до- и послекаторжный период и выдвинул идею о неизменности основ мировоззрения и мировосприятия писателя3. Однако аргументация учёного не переборола стереотипного восприятия «Записок.». Вместе с тем многие факты литературного, идейного и психологического порядка могут послужить подтверждением правоты обозначенного исследователем тезиса.
В данной работе мы остановимся на анализе коммуникативных стратегий и экзистенциальных состояний Достоевского, проявившихся в ситуации каторги, и сопоставим их с предшествующим жизненным опытом писателя. В конечном счёте нас будет интересовать общая личностная ситуация Достоевского, являющаяся внутренним источником его мировоззрения и творчества.
В преддверии нашего анализа следует установить одну принципиальную конвенцию. Касается она соотнесения личности Достоевского и героя «Записок». Разумеется, говорить о полном совпадении здесь нельзя. Сама природа художественного текста уже подразумевает трансформацию личности его создателя, как бы адекватно он ни хотел её воплотить4. Тем не менее комплекс переживаний и мыслей, повторяющихся в «Записках.», в письмах, в воспоминаниях о писателе, есть свидетельство присутствия личного опыта Достоевского в повествовании о каторге Горянчикова. Исследователи «Записок.» так или иначе признают этот факт, отмечая не фактическую слитность Достоевского и его героя, а психологическую и идейную5. Поэтому с оговорками, но всё же правомерно будет подходить к «Запискам.» как к одному из важнейших свидетельств внутреннего состояния Достоевского-каторжника. Именно в этом плане мы отождествляем личность Горянчикова и самого Достоевского.
Если сопоставить состояние Достоевского перед отправкой в Сибирь с его состоянием перед окончанием срока, то обнаруживается их сущностное сходство.
Это своеобразная рамка, внутри которой заключён собственно каторжный опыт жизни. Как известно, из казематов Петропавловской крепости будущее казалось Достоевскому совершенно новым жизненным этапом. В письме брату Михаилу писатель много и горячо говорит о своём перерождении к новой жизни: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени <...> как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, - так кровью обливается сердце моё. <...> Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. <.> Я перерожусь к лучшему» (281: 164).
В «Записках.», завершая повествование о годах каторги, Достоевский пишет: «Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, <...> судил себя один неумолимо и строго <...>. И какими надеждами забилось тогда моё сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твёрдо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я всё это исполню и могу исполнить» (4: 220).
В обоих случаях состояния Достоевского идентичны. Петербургская и каторжная жизнь порождает одинаковые ощущения краха своих человеческих устремлений и надежду на их восстановление в будущем. Эта повторяемость свидетельствует о двух важных моментах. Во-первых, сходные состояния указывают на аналогичную логику ситуаций, приведших к таким экзистенциальным кризисам. Следовательно, жизненное наполнение этих ситуаций не влияет на механизм переживаний. Он срабатывает и в петербургской жизни и в суровой обстановке Омского острога. Во-вторых, выявленное « обрамление» каторжного опыта говорит о круговом принципе экзистенциальных переживаний писателя: ощущение краха - надежда на возрождение - провал -возвращение к начальной жизненной установке и новый виток6. Проследим движение этого круга, сначала обратившись к опыту Достоевского-каторжника.
Свою главную задачу в предстоящей каторжной жизни Достоевский сформулировал в письме брату: «. быть человеком между людьми и остаться им навсегда» (281: 162 - курсив Достоевского. - А. К.).
Однако в условиях реальной каторги эта жизненная установка подверглась тяжёлому испытанию. Первыми и наиболее сильными ощущениями Достоевского от острога стали одиночество и изгойство. Вместо ожидаемого сообщества открытых миру людей, писатель столкнулся с замкнутым и закрытым социумом. Каторжная среда, как любая пенитенциарная система, жила своими законами и отношениями.
Столкнувшись с ней, Достоевский, вместо твёрдости в стремлении «быть человеком», сразу же уходит в глухую оборону от всего окружения. Весь мир представляется ему враждебным и опасным. Своих «товарищей» по острогу он называет «врагами», а самого себя начинает воспринимать как жертву обстоятельств.
Снова становится актуальным желание свободы, которую, как кажется Достоевскому, можно обрести только за стенами каторги. Из Петербурга пространством свободы казалась Сибирь, из Сибири - снова мир Петербурга. Это был замкнутый круг, причиной которому, прежде всего, был сам Достоевский. Как утверждали некоторые исследователи, надежда на свободу вне каторги стала спасительной для писателя. Приверженность ей возвышала каторжанина, помогала ему преодолеть гнёт «мёртвого дома» . Однако взгляд Достоевского на истинную свободу заключался в диаметрально противоположной идее. Её
писатель отчётливо сформулировал в «Пушкинской речи»: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду... Победишь себя, усмиришь себя - и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его» (26: 139).
Эта известная мысль Достоевского напрасно забывается в разговоре о каторге. Несмотря на временную дистанцию идея внутренней свободы в «Пушкинской речи» напрямую соотносится с идеалом Достоевского-заключённого «быть человеком среди людей». Поэтому его мысли о том, что лишь вне острога возможно обретение свободы, говорят не о внутреннем возвышении, а о капитуляции личности.
Для того чтобы быть личностью, нужно было действовать здесь и сейчас, а не полагаться на изменение обстоятельств. Однако Достоевский пошёл иным путём. Смириться с положением изгоя он не мог, поскольку воспринимал одиночество как свидетельство собственной слабости8. Чувство ущемлённого самолюбия толкало писателя к наиболее лёгкому способу самоутверждения - за счёт другого.
Исследователи «Записок.» видят в попытках Достоевского сблизиться с уголовниками из народа проявление его истинной человечности: «Постепенно, постигая внутреннюю духовную жизнь народа, автор сам возрождается, в нём
9
воскресают новые надежды» .
Однако анализ отношений Достоевского с каторжниками не подтверждает этих оптимистических утверждений. Герой «Записок.» особенно дорожит отношениями с «сильными» каторжниками (Орловым и Петровым), ведь от успеха единения с ними зависела его собственная самооценка. Стремление к самоутверждению уродует потенциально диалогичный контакт между каторжниками и Горянчиковым. Диалог у Достоевского, как указывал М. М. Бахтин, призван открыть «человека в человеке»10. Истинный диалог гуманен по своей природе, он противится всякому авторитаризму и овнешнению. Однако диалог может обратиться и в средство подавления личности. По сути, это фиктивный диалог. Такой диалог лишь имитирует равноправие. На самом деле он является инструментом воздействия на чужое сознание.
Не на желании увидеть в каторжнике человека основывается коммуникация между героем «Записок.» и его знакомцами по острогу, а на скрытом стремлении к власти над ними11. Поэтому мы и видим те срывы в самоуничижение, которые возникают после отказа каторжников признать авторитет Горянчикова-Достоевского: «В сущности, он (Орлов. - А. К.) не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее » (4: 48); «Мне кажется, он (Петров. - А. К.) вообще считал меня каким-то ребёнком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. <.> Считал ли он меня недоросшим, неполным человеком, чувствовал ли ко мне особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому слабейшему, признав меня за такое. не знаю» (4: 86).
Все эти уничижительные оценки принадлежат не каторжникам, а самому Горянчикову. Таким - жалким и низшим - чувствует он себя сам, а вместе с ним и Достоевский. Отсюда следует и восприятие себя беспомощным существом -
ребёнком. В этом ощущении себя «младенцем» видны и горечь отверженности и презрение к собственному бессилию.
Провал коммуникации с «сильными» каторжниками подталкивает Достоевского искать самоутверждения среди «: слабых». В «Записках.» Достоевский говорит о сближении Горянчикова с каторжником Сушиловым и частью с Сироткиным. К обоим Александр Петрович испытывает человеческие чувства жалости и сострадания. В отличие от «угрюмых и злых» арестантов он не смеётся над ними, не унижает их.
Однако эти, казалось бы, истинно человеческие отношения в результате приводят к тому же тупику, что и связь с «сильными» каторжниками. Отношения с Сушиловым являются зеркальным отражением ситуаций с Петровым и Орловым. Здесь герой-рассказчик как бы компенсирует то поражение, которое он терпит в среде «:сильных» каторжников. Там самооценка Горянчикова определялась уничижительно-детскими характеристиками, здесь такими чертами наделяются каторжники. Детско-женственные черты становятся общими в
образах людей, которых Горянчиков считает близкими.
Соответственно самого себя герой сразу ставит выше своих товарищей. Он принимает услужения Сушилова, позволяя вести себя с ним невнимательно, капризно, требовательно. Об этих метаморфозах души сообщает Достоевский своему брату в первом письме из Сибири: «А между тем характер мой испортился; я был с ними капризен, нетерпелив. Они уважали состояние моего духа и переносили всё безропотно» (281: 172).
Раздражительность Достоевского может быть связана и с тем, что в лице «слабых» каторжников, к которым все относились с пренебрежением и грубостью, он видел своё собственное отражение. Это были своеобразные двойники, разоблачающие перед ним его же сущность: слабую, беспомощную, зажатую страхами и тревогами личность. Ту сущность, которую Достоевский не хотел в себе признавать и от которой не мог избавиться.
Пожалуй, единственным просветом в человеческих отношениях на каторге для героя «Записок.» стал Алей. Его возможным прототипом был сосланный в Омск черкес Али Делек Тат Оглы (4: 282). Однако Алей был счастливым исключением из общей массы каторжников. Для Достоевского встреча с таким человеком послужила лишь временным выходом из тяжёлой ситуации одиночества12.
Таким образом, сближение Достоевского с каторжниками было основано на стремлении к самоутверждению. Средством для этого стали люди. Кто-то поддавался Достоевскому, кто-то продолжал сохранять свою независимость. Но в любом случае итогом этих ложных отношений стали неизбывные чувства одиночества и презрения к себе. Этой судьбой писатель «наградил» и Горянчикова. Послекаторжное существование Александра Петровича, с его одиночеством и самоизоляцией, явились проекцией самоощущения самого Достоевского.
Для Достоевского каторга стала не путём к освобождению личности, а внутренним позором, о котором он пишет Н. Д. Фонвизиной: «Самое несносное несчастье это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок, сознаёшь всё это, упрекаешь себя даже - и не можешь себя пересилить. Я это испытал. Я уверен, что бог Вас избавил от этого» (281: 177).
Каторга показала писателю, насколько слаба его личность, насколько далёк оказался он от идеала человека, который, как Христос в словах Алея, мог бы
«прощать, любить, не обижать» и любить врагов (4: 54)13. И выход из этого тупика Достоевский находит не в изменении себя, а в новой надежде на другую жизнь.
Стратегии самоутверждения, основанные на комплексе слабой личности, во многом объясняются той экстраординарной ситуацией каторги, с которой сталкивается Достоевский. Однако главные механизмы поведения и переживаний писателя оказываются повторением пройденного. Прежде всего, отмеченные слабость личности и стремление к самоутверждению за счёт слабого встречаются в опыте Достоевского-кондуктора.
Внутренний мир Инженерного училища своей закрытостью и жесткой организацией отдалённо напоминал каторгу. По воспоминаниям дежурного офицера А. И. Савельева: «Училище тогда представляло из себя особенный мирок, в котором были свои обычаи, порядки и законы»14.
Отношения между воспитанниками военного заведения во многом подчинялись устоявшимся правилам, не всегда основанным на понятиях долга, уважения и чести. Эта среда несла в себе угрозу индивидуальности и свободе личности. Не утратить их, сохранив способность к спонтанному и свободному действию, - таково было условие быть человеком и в этом мире.
Пусть не очень ясно, но стремление к идеалу человека проявляется у молодого Достоевского. Спустя полтора года по зачислению в училище, он пишет брату: «Зато сильнее бывает со мною и пробуждение. Одна моя цель быть на свободе. <...> Благословляю минуты, в которые я мирюсь с настоящим (а эти минуты чаще стали посещать меня теперь). В эти минуты яснее <сознаю своё> положение, и я уверен, <что эти> святые надежды сбудутся. <. > Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Всё в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, «что значит человек и жизнь», - в этом довольно успеваю я <...>. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (281: 62-63).
В этом широко цитируемом письме Достоевского обычно делают акцент на самом раннем определении художественного метода писателя - «человек есть тайна». Но всё же в первую очередь Достоевский здесь говорит не о творчестве, а
о смысле собственного существования. С этой точки зрения в письме 1839 года обнаруживаются все ключевые состояния, зафиксированные в письме брату перед каторгой и в признаниях рассказчика из «Записок.». Это и стремление к свободе, и минуты переосмысления жизни, и надежда на воплощение идеала человека. Здесь впервые звучит желание «быть человеком».
Однако и в мире Инженерного училища достичь идеала свободного человека, по всей видимости, не удаётся. Реализовать свою индивидуальность в окружающем обществе Достоевский оказался неспособным. Все мемуаристы отмечают его обособленность, одиночество и изгойство.
Так, в воспоминаниях Д. В. Григоровича читаем: «Фёдор Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединённого места» (Достоевский в воспоминаниях: 200).
Вместе с тем, недолюбливая своих сослуживцев, Достоевский, вероятно, находился в зависимости от них. Причиной этому могло быть самолюбие писателя, а вернее - недостаток любви и уважения к себе. Романтические стереотипы поведения и образы, пронизывающие письма Достоевского из
училища; его «прожект стать сумасшедшим», избранным и т. д. - всё это свидетельства не только юношеского увлечения романтизмом, но и желания быть не тем, кто ты есть на самом деле.
Именно эта нелюбовь к себе всё время толкала Достоевского к самоутверждению за счёт других. В реальности молодой кондуктор чрезвычайно зависел от окружения, поскольку только опираясь на него, он мог утвердиться. «Монах Фотий», как прозвали его в училище, жаждал не только свободы и уединения, но и власти над другим. Эта власть должна была дать ему ощущение силы.
Заслужить авторитет в среде товарищей по училищу Достоевский не мог. Его образ и манера поведения вызывали не восхищение, а «усмешки». По воспоминаниям К. А. Трутовского, «во всём училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. <.> Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперёд где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него. <.> Добр и мягок он был всегда, но мало с кем сходился из товарищей. <.> Такое изолированное положение Фёдора Михайловича вызывало со стороны товарищей добродушные насмешки.» (Достоевский в воспоминаниях: 172).
Эти «насмешки» болезненно отзывались в душе Достоевского. Даже такой противник отождествления личности Достоевского-кондуктора с героем «Записок из подполья», как В. С. Нечаева, признаёт, что в рассуждениях «подпольного» человека о друзьях заложены чувства самого писателя к учащимся Инженерного
15
училища .
Не находя возможности самоутверждения среди основной массы сверстников, Достоевский идёт другим путём. Он компенсирует свой комплекс неполноценности среди товарищей со слабым характером. Наиболее ярким примером является его странная дружба с Бережецким. Влияние на него было настолько велико, что Бережецкий целиком оказался в психологической зависимости от Достоевского. Биограф Достоевского О. Миллер приводит слова
А. И. Савельева: «Бережецкий сам был “под сильным влиянием Достоевского, слушался его и повиновался ему, как преданный ученик учителю”»16.
Не раз было замечено, что именно о Бережецком писатель сообщает в письме брату Михаилу17: «Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я! <.> Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. - Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом.» (281: 69 - курсив Достоевского. - А. К.)
То же «подавляющее» влияние Достоевского пережил и Д. В. Григорович: «С неумеренною пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера, я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию» (Достоевский в воспоминаниях: 200).
Бережецкий, Д. В. Григорович - те немногие из товарищей Достоевского, с которыми ему удалось установить близкие отношения. Д. В. Григорович в своих воспоминаниях говорит о том, что вокруг Достоевского образовался небольшой кружок, в котором главное место занимал сам будущий писатель (Достоевский в воспоминаниях: 201). Вероятно, этот кружок нужен был ему в том числе и для самоутверждения. Слабые и податливые характеры «поклонников» Достоевского
позволяли ему добиваться того ощущения силы и собственной значимости, которого он не мог обрести в среде основной массы учащихся.
В сравнении с каторгой повторяется и ощущение краха жизненных установок. Разумеется, конкретные причины кризиса здесь были иные, нежели на каторге. Но общим в ситуации Инженерного училища и острога было чувство невозможности своей личностной самореализации. Свобода, спонтанность, полнота бытия - всё это в конце определённого периода жизни оказывалось недостижимым и попранным идеалом.
Примерно за год до получения офицерского чина Достоевский в письме брату даёт своеобразную исповедь: «Оно (время. - А. К.) может определить, <...> была ли эта деятельность (то есть жизнь. - А. К.) душевная и сердечная чиста и правильна, ясна и светла, как наше естественное стремленье в полной жизни человека, или неправильная, бесцельная, тщетная деятельность, заблужденье, вынужденное у сердца одинокого, часто не понимающего себя, часто ещё бессмысленного как младенец.» (281: 75).
Логическим продолжением экзистенциального кризиса для Достоевского становится острое желание вырваться из-под гнёта своих переживаний. Достоевский выказывает одну из постоянных черт своего «стиля» решения экзистенциальных проблем. Не находя сил изменить себя, он начинает воспринимать всю ситуацию как фатальную. И поэтому выход из неё должна дать сама судьба. Всё это напоминает рулетку18. Новая жизнь становится своеобразной ставкой, которая должна принести желанную свободу.
Решив выйти в отставку, Достоевский пишет брату: «Я даже считаю благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, риск целой жизни - на шаткую надежду. Может быть, я ошибаюсь. А если не ошибаюсь?» (281: 101).
Точно такой же способ преодоления внутреннего тупика становится итогом и каторжной жизни писателя. В письме Н. Д. Фонвизиной читаем: «Я в каком-то ожидании чего-то; <. > и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная» (281: 177).
По выходе в отставку Достоевский целиком уходит в мир литературной жизни. Творчество для него навсегда станет единственным средством полного раскрытия своей личности. Но в социальном плане литература была средством всё того же самоутверждения.
Хорошо известно драматичное начало пути Достоевского-писателя: головокружительный успех первого романа, потом критика Белинского и разрыв с его кружком. В этих испытаниях начинающего писателя снова проявились все комплексы, мучавшие Достоевского в училище.
В отличие от ученической и военной среды общество литераторов сразу дало Достоевскому возможность показать себя. Успех «Бедных людей» возносит писателя к вершине литературного Олимпа, что было воспринято им как безусловная социальная победа. Она открывала двери литературных кружков, журналов, светских салонов. Достоевский, почти в стиле Хлестакова, видит себя преуспевающим писателем, любимцем публики, «модным» человеком и даже немного денди, с лёгкостью рассуждающим о «Минушках, Кларушках, Марианнах» (281: 116).
Однако качественного изменения в личности писателя этот успех не произвёл. Гиперболизация своего первенства говорила о неискоренённом комплексе неполноценности. Писатель всё так же не находил внутренней уверенности и свободы; всё так же, а может и больше, пребывал в состоянии зависимости от другого.
Слабость характера мгновенно проявила себя, как только критика усомнилась в гениальности писателя. Достоевский порывает с кружком Белинского, при этом не преодолевая зависимости от центра литературного общества. По сути это было бегство, а не сознательный уход. В письме Е. П. Майковой 1848 года Достоевский анализирует свою встречу с кем-то из круга «Современника». Главным мотивом этого «сюжета» становится именно бегство. Фактически Достоевский признаёт свою психологическую слабость в ситуации столкновения с прежними соратниками по литературе: «Я боюсь, чтоб Вы не подумали, что я был крут и (соглашаюсь) - груб с каким-нибудь странным намерением. Но я бежал по инстинкту, предчувствуя слабость натуры моей <...> трудно мне (сознаюсь в этом) сохранить хладнокровие, видя перед собой большинство, которое, как вспоминаю я, действовало против меня <. > и я инстинктивно обратился в бегство.» (281: 145).
Комплекс неполноценности оказался не только сохранившимся, но и чрезвычайно обострённым. Провал в литературной среде соответствует будущему краху попыток войти в мир «:сильных» каторжников. В обоих случаях Достоевский стремился занять высшее положение и мучался от неудачи этого.
И опять-таки, как и раньше в Инженерном училище или позже в остроге, Достоевский компенсирует социальную неудачу путём самоутверждения за счёт «слабого». В кружке Бекетовых, где, по словам писателя, он «вылечился» (281: 134) от всех испытаний, Достоевский утверждал себя прежде всего как литератор и критик. Об этом вспоминают и Д. В. Григорович, и С. Д. Яновский. При этом в отсутствии первых лиц новой русской литературы он сразу завоевал место главного специалиста в области художественного творчества. В воспоминаниях С. Д. Яновского мы находим подробное описание того, как Достоевский относился к окружающим его писателям: «Я не помню ни одного из известных мне товарищей Фёдора Михайловича (я их знал почти всех), который не считал бы своею обязанностию прочесть ему свой литературный труд» (Достоевский в воспоминаниях: 243).
Если сочинение не удовлетворяло вкусам Достоевского, то «повести тут же самими авторами торжественно уничтожались» (Достоевский в воспоминаниях: 243). При этом С. Д. Яновский не приводит ни одного случая похвалы Достоевского.
Стиль «приговоров» Достоевского отличается своей безапелляционностью. Так, критикуя Я. П. Буткова, он говорит, что «писать так не только скверно, но и непозволительно, потому что “в том, что вы написали, нет ни ума, ни правды, а только ложь и безнравственный цинизм”» (Достоевский в воспоминаниях: 243244).
В такой же манере он разносит и сочинение А. Н. Плещеева (на сюжет самого Достоевского): «:Во-первых, вы меня не поняли и сочинили совсем другое, а не то, что я вам рассказал; а во-вторых, и то, что сами придумали, выражено очень плохо» (Достоевский в воспоминаниях: 244). И таких случаев, говорит С. Д. Яновский, «было не два, а десятки» (Там же).
Если помнить о недавнем провале в обществе «Современника», то можно предположить, что роль авторитетного критика для Достоевского имела явно компенсаторный характер. Не выдержав охлаждения «Современника» к себе, Достоевский в своём кружке разыгрывает роль «неистового» критика, своеобразного «Белинского», при этом оставаясь неготовым к любому столкновению с бывшими товарищами.
Характерно, что психологическую причину связи Достоевского с политическим обществом доктор Яновский видит в желании писателя «проповедовать». Желании, которое также можно интерпретировать как стремление Достоевского подчинять себе людей: «Фёдор Михайлович очень любил общество, или, лучше сказать, собрание молодёжи, жаждущей какого-нибудь умственного развития, но в особенности он любил такое общество, где чувствовал себя как бы на кафедре, с которой мог проповедовать. <...> Он начал своё посещение их (петрашевцев. - А. К.) <...> благодаря тому, что его там слушали» (Достоевский в воспоминаниях: 242-250).
Стремление к власти над чужим сознанием проявляется и на каторге, особенно в истории с Алеем. Внешне благородное просветительство вряд ли было абсолютно бескорыстно с психологической точки зрения. Однако успех среди « слабого» окружения давал лишь иллюзию обретения свободы и уверенности. Такой путь вёл только к тупику и кризису, который и стал проявляться ещё до ареста: «Вся перемена Фёдора Михайловича, по крайней мере, в моих глазах, заключалась в том, что он сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придраться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты» (Достоевский в воспоминаниях: 248).
Художественным выражением этого тупикового пути самоутверждения за счёт другого стала повесть «Двойник» (1846). Здесь находит реализацию вся экзистенциальная ситуация Достоевского - ситуация провала попытки человека быть человеком. Возможно, что, кроме прочих важных причин, обозначившийся тупик подвёл Достоевского к глубокому переосмыслению своей прежней жизни, к мыслям о грехе «против сердца моего и духа» и очередной надежде на « перерождение», в которых исповедуется писатель в письме из Петропавловской крепости.
Далее была каторга. Надежда на то, чтобы там, в ином мире, стать человеком. Мучительная борьба за это и тяжёлое поражение. Круг замкнулся, оставляя лишь очередное иррациональное упование на будущее воскресение19. И это стало одним из важнейших открытий Достоевского в понимании собственной личности.
«Каторжный опыт писателя - его духовное богатство», - писал в 1947 году
20
К. В. Мочульский . Даже такой интерпретатор Достоевского, как Л. Шестов, предельно акцентирующий «подполье» души писателя, усматривал в его каторжном опыте свет надежды, сохранивший душу от «ржавчины»21. Об этом, вслед за самим писателем, говорили и другие исследователи. Но на поверку оказывается, что исследовательская мысль «ловится» на те признания Достоевского, в которых он облагораживал свой внутренний «мёртвый дом».
Каторга не переродила Достоевского. Она в предельно концентрированном и обнажённом виде обозначила для него бессилие стать человеком. В Петербурге собственной слабости ещё можно было найти извиняющие объяснения. Её можно было списать на обстоятельства, а в момент кризиса была возможность скрыться от неё. Каторга требовала от Достоевского не писательского дара, не
общественного авторитета. Она требовала только одного - способности быть личностью. В этом мире можно было утвердить себя только за счёт этого. Поэтому своё поражение Достоевский воспринял предельно тяжело. Дальше можно было творить, мыслить, спорить, но все это было уже вторичным, производным от неизменного чувства презрения к самому себе.
Представляется показательным своеобразное обрамление «Записок из Мёртвого дома». Ключевым произведением докаторжного периода для Достоевского был «Двойник». По возвращении в литературу - «Записки из подполья» (1864). Оба произведения Достоевский считал определяющими в своём творчестве. К «Двойнику» он обращается и после освобождения, а «трагизм подполья» считал главным свои «открытием» (16: 329). Мотивная и идейная схожесть этих «петербургских» повестей Достоевского установлена22. И это подтверждает неизменность экзистенциальной ситуации Достоевского. Более того, судя по «Запискам из подполья», её тяжесть после каторги лишь усугубляется.
Обрамление «Записок из Мёртвого дома» заставляет иначе, чем принято, посмотреть на это произведение, равно как и на весь каторжный опыт Достоевского. Несмотря на отличия в плане предмета изображения и проблематики, «Записки.» передают тот же комплекс переживаний, что держит повествование в обрамляющих его произведениях. Бессилие быть свободной, открытой миру и людям личностью давило Достоевского более, чем самые тяжёлые обстоятельства. Но именно оно стало внутренним генератором его идеологии и поэтики.
Примечания
1 Далее «Записки из Мёртвого дома» имеют сокращённое обозначение «Записки.». Ссылки на произведения и письма Достоевского даются по изданию: Достоевский, Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. / Ф. М. Достоевский. - Л. : Наука, 1972-1990 (с обозначением в круглых скобках номеров тома и страницы).
2 См.: Туниманов, В. А. Творчество Достоевского (1854-1862) /
B. А. Туниманов. - Л. : Наука, 1980. - С. 284-288.
3 См.: Комарович, В. Л. «Мировая гармония» Достоевского / В. Л. Комарович // Властитель дум : Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX - начала XX века / сост. Н. Ашимбаева. - СПб. : Худож. лит., 1997. - С. 583-611.
4 В отношении «Записок.» см. об этом: Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе / Л. Я. Гинзбург. - Л. : Сов. писатель, 1971. - С. 137.
5 См., например: Мочульский, К. В. Достоевский : жизнь и творчество / К. В. Мочульский // Гоголь. Соловьев. Достоевский. - М. : Республика, 1995. - С. 217562; Кирпотин, В. Я. Достоевский в шестидесятые годы / В. Я. Кирпотин. - М. : Худож. лит., 1966; Туниманов, В. А. Указ. соч.; Джексон, Р. Л. Искусство Достоевского : бреды и ноктюрны / Р. Л. Джексон. - М. : Радикс, 1998.
6 «Путь Достоевского, от начала сознательного отношения к жизни и до конца её, словно усеян ловушками, и, выбираясь из одной, он тут же загонял себя в другую, чтобы снова делать то же самое, что только что делал» (Бурсов, Б. И. Личность Достоевского : роман-исследование / Б. И. Бурсов. Л. : Сов. писатель, 1974. -
C. 367).
7 См.: Мочульский, К. В. Указ. соч.; Карлова, Т. С. Достоевский и русский суд / Т. С. Карлова. - Казань : Казан. гос. ун-т, 1975; Селезнёв, Ю. М. В мире Достоевского / Ю. М. Селезнев. - Л. : Современник, 1980.
О противоречивости смирения у Достоевского-каторжника см.: Кирпотин, В. Я. Ф. М. Достоевский : творческий путь (1821 - 1859) / В. Я. Кирпотин. - М. : Худож. лит., 1960. - С. 476.
9 См.: Щенников, Г. К. Достоевский и русский реализм / Г. К. Щенников. -Свердловск : Урал. гос. ун-т, 1987. - С. 87.
10 Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. - М. : Худож. лит., 1972. - С. 434.
11 Стремлением возвыситься над каторжниками мы объясняем и «аристократические» амбиции Достоевского, неожиданно проявившиеся на каторге. Об этом см.: Токаржевский, Ш. Семь лет каторги / Ш. Токаржевский // Голоса Сибири : лит. альманах. Вып. третий. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006.
- С. 459-460.
12
См.: Джексон, Р. Л. Искусство Достоевского... С. 55.
13
См: Джексон, Р. Л. Указ. соч. С. 55. Взгляд на «Записки.» как на рассказ о душевном тупике человека высказывается в работе В. Шкловского (Шкловский, В. Б. За и против : заметки о Достоевском / В. Б. Шкловский. - М. : Сов. писатель, 1957. - С. 102). В. А. Туниманов в отличие от большинства исследователей также пишет о предельной тяжести душевных переживаний Достоевского-каторжника (Туниманов, В. А. Творчество Достоевского. С. 8586).
14 Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2 т. Т. 1 / вступ. ст., сост. и комм. К. Тюнькина. - М. : Худож. лит., 1990. - С. 164. Далее ссылки на тексты воспоминаний о Достоевском даются по этому изданию с обозначением Достоевский в воспоминаниях и указанием номера страницы.
15 См.: Нечаева, В. С. Ранний Достоевский / В. С. Нечаева. - М. : Наука, 1979. -С. 72, 80-81. Полемика о том, отразилась ли личность Достоевского в «подпольном человеке», ведётся ещё со времён знаменитого письма Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому (Переписка Л. Толстого с Н. Н. Страховым : 1870-1894.
- СПб., 1903. - С. 308). См. об этом, например: Шестов, Л. Достоевский и Ницше : философия трагедии / Л. Шестов // Избранные сочинения. - М. : Ренессанс, 1993. - С. 159-326; Комарович, В. Л. Указ. соч.; Скафтымов, А. П. «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского / А. П. Скафтымов // Нравственные искания русских писателей : статьи и исследования о русских классиках / А. П. Скафтымов. - М. : Худож. лит., 1972. - С. 88-133; Бахтин, М. М. Проблемы поэтики. С. 84-90; Назиров, Р. Г. Об этической проблематике повести «Записки из подполья» / Р. Г. Назиров // Достоевский и его время / Р. Г. Назиров. - Л. : Наука, 1971. - С. 143-153; Дилакторская, О. Г. Петербургская повесть Достоевского / О. Г. Дилакторская. - СПб. : Дм. Буланин, 1999. - С. 241-247. Однако, несмотря на разность позиций, исследователями признаётся факт перекличек между личностью писателя и его героем. Думается, что при всём различии авторской позиции и позиции «подпольного» человека экзистенциальные переживания объединяют писателя и героя.
16 Цит. по: Нечаева, В. С. Ранний Достоевский... С. 79.
17 См.: Достоевский, Ф. М. Полн. собр. соч. - Т. 28. - С. 412; Нечаева, В. С.
Ранний Достоевский. С. 80-81.
О реализации механизма игры в рулетку в художественном мире Достоевского см.: Лотман, Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении / Ю. М. Лотман // Избр. статьи : в 3 т. Т. 1. - Таллинн, 1992. - С. 239.
19 «Достоевский - писатель ужаса, но во всяком случае - не безнадежности. Его надежда опирается на возможность чуда преображения.» (Бурсов, Б. И.
Личность Достоевского. С. 329).
20
См.: Мочульский, К. В. Достоевский. С. 315.
21
См.: Шестов, Л. Достоевский и Ницше. С. 190-191.
22 См.: Достоевский, Ф. М. Полн. собр. соч. - Т. 1. - С. 484-486; Захаров, В. Н. Система жанров Достоевского : типология и поэтика. - Л. : Ленингр. ун-т, 1985. -
С. 65-72, 101-103; Дилакторская, О. Г. Петербургская повесть. С. 247-294.





 CC BY
CC BY 134
134