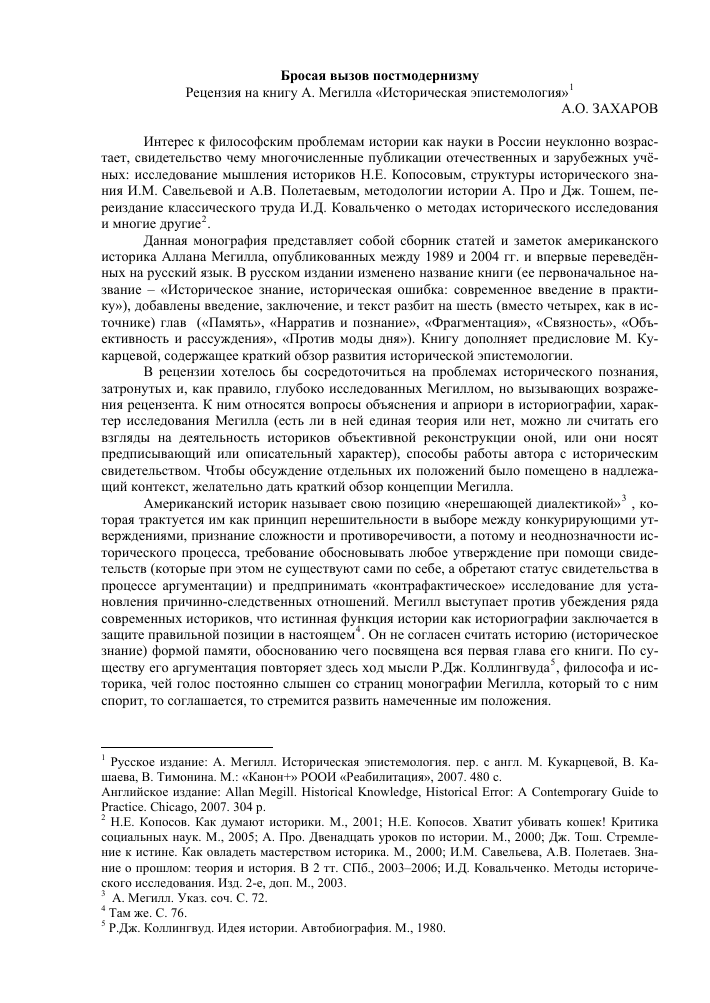Бросая вызов постмодернизму
Рецензия на книгу А. Мегилла «Историческая эпистемология»1
АО. ЗАХАРОВ
Интерес к философским проблемам истории как науки в России неуклонно возрастает, свидетельство чему многочисленные публикации отечественных и зарубежных учёных: исследование мышления историков Н.Е. Копосовым, структуры исторического знания И.М. Савельевой и А.В. Полетаевым, методологии истории А. Про и Дж. Тошем, переиздание классического труда И. Д. Ковальченко о методах исторического исследования и многие другие2.
Данная монография представляет собой сборник статей и заметок американского историка Аллана Мегилла, опубликованных между 1989 и 2004 гг. и впервые переведённых на русский язык. В русском издании изменено название книги (ее первоначальное название - «Историческое знание, историческая ошибка: современное введение в практику»), добавлены введение, заключение, и текст разбит на шесть (вместо четырех, как в источнике) глав («Память», «Нарратив и познание», «Фрагментация», «Связность», «Объективность и рассуждения», «Против моды дня»). Книгу дополняет предисловие М. Ку-карцевой, содержащее краткий обзор развития исторической эпистемологии.
В рецензии хотелось бы сосредоточиться на проблемах исторического познания, затронутых и, как правило, глубоко исследованных Мегиллом, но вызывающих возражения рецензента. К ним относятся вопросы объяснения и априори в историографии, характер исследования Мегилла (есть ли в ней единая теория или нет, можно ли считать его взгляды на деятельность историков объективной реконструкции оной, или они носят предписывающий или описательный характер), способы работы автора с историческим свидетельством. Чтобы обсуждение отдельных их положений было помещено в надлежащий контекст, желательно дать краткий обзор концепции Мегилла.
Американский историк называет свою позицию «нерешающей диалектикой»3 , которая трактуется им как принцип нерешительности в выборе между конкурирующими утверждениями, признание сложности и противоречивости, а потому и неоднозначности исторического процесса, требование обосновывать любое утверждение при помощи свидетельств (которые при этом не существуют сами по себе, а обретают статус свидетельства в процессе аргументации) и предпринимать «контрафактическое» исследование для установления причинно-следственных отношений. Мегилл выступает против убеждения ряда современных историков, что истинная функция истории как историографии заключается в защите правильной позиции в настоящем4. Он не согласен считать историю (историческое знание) формой памяти, обоснованию чего посвящена вся первая глава его книги. По существу его аргументация повторяет здесь ход мысли Р.Дж. Коллингвуда5, философа и историка, чей голос постоянно слышен со страниц монографии Мегилла, который то с ним спорит, то соглашается, то стремится развить намеченные им положения.
1 Русское издание: А. Мегилл. Историческая эпистемология. пер. с англ. М. Кукарцевой, В. Ка-шаева, В. Тимонина. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 480 с.
Английское издание: Allan Megill. Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide to Practice. Chicago, 2007. 304 p.
2 Н.Е. Копосов. Как думают историки. М., 2001; Н.Е. Копосов. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005; А. Про. Двенадцать уроков по истории. М., 2000; Дж. Тош. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000; И.М. Савельева, А.В. Полетаев. Знание о прошлом: теория и история. В 2 тт. СПб., 2003-2006; И.Д. Ковальченко. Методы исторического исследования. Изд. 2-е, доп. М., 2003.
3 А. Мегилл. Указ. соч. С. 72.
4 Там же. С. 76.
5 Р.Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография. М., 1980.
Анализируя связь между нарративом и историей, Мегилл приходит к выводу о том, что повествование обладает познавательной ценностью, но этого недостаточно для исторической реконструкции. Он отвергает концепцию кризиса «большого нарратива»: повествование слишком встроено в наш опыт мира, чтобы от него отказаться, и даже убеждённый критик нарратива М. Фуко сконструировал такую последовательность эпистем в своей работе «Слова и вещи», что она воспринимается как повествование6. Мегилл показывает также что, считать, будто главная задача историографии - объяснение, неверно: есть ещё три столь же важные и, более того, необходимые задачи, а именно описание (о чём в отечественной интеллектуальной традиции писал, например, Н.Е. Копосов7), аргументация/обоснование и интерпретация8.
В главе о фрагментации историографии Мегилл исследует четыре идеально-типические установки по отношению к полной когерентности (внутренней согласованности или, как иногда пишет автор, связности) истории: 1) «существует некая единственная связная История», и она может быть рассказана здесь-сейчас;2) такая История есть, но рассказать её можно будет лишь после дальнейших исследований; 3) такая История есть, но она никогда не будет рассказана; 4) такой Истории нет (хотя сам Мегилл так и не выразил этой мысли эксплицитно). Эти установки в известной мере отражают последовательность представлений о задачах историописания, бытовавших в западноевропейской интеллектуальной традиции от средневековья до наших дней, хотя они могут переплетаться в работах одного и того же историка.
С точки зрения Мегилла, можно сформулировать четыре постулата исторического исследования: во-первых, нельзя думать, будто существует один исторический метод или предмет; во-вторых, требуется выходить за рамки своей дисциплины, т. е. осуществлять междисциплинарный подход; в-третьих, выявлять вымышленность, присутствующую в работах по истории, и в-четвёртых, теоретизировать9. Историк пишет, что «ошибочно рассматривать историю как предприятие, которое должно быть сосредоточено на поиске связности. Напротив, часть функции исторического исследования заключается в перетасовывании карт, в демонстрации тех разнообразных состояний, в которых прошлое действительно некогерентно самому себе и нашим ожиданиям, и в которых изучение прошлого полагается на противоречивые способы понимания и доказательства»10 .
Анализируя объективность, Мегилл исходит из того, что это претензия на обладание когнитивной или эпистемологической значимостью и что аналитически можно выделить четыре типа объективности, к которым могут стремиться историки: философскую, или абсолютную объективность, дисциплинарную объективность, диалектическую объективность, процедурную объективность11. Абсолютная объективность есть претензия на полное отражение реальности без предвзятости, искажений и пристрастий; дисциплинарная объективность есть претензия на отражение реальности сообразно устоявшимся в научном сообществе представлениям о природе этой реальности. Диалектическая объективность, насколько можно судить по тексту Мегилла,,- это претензия на объективацию субъективности, так как она исходит из того, что «объекты становятся объектами в ходе взаимодействия между субъектом и объектом». В итоге Мегилл говорит о симбиозе между этой последней и абсолютной объективности, примером чего оказывается Кант: разум посредством категорий рассудка мыслит связь между многообразием субъективных ощущений и эта связь объективна в силу универсальности этих категорий. Процедурная объективность у Мегилла ориентируется на обезличенные методы исследования и претендует на познавательную значимость на основе использования этих, исключающих субъектив-
6 А. Мегилл. Указ. соч. С. 170-254, особенно 185.
7 Н.Е. Копосов. Указ. соч.
8 Там же. С. 241-242.
9 Там же. С. 303, 306, 309, 311.
10 Там же. С. 355.
11 Там же. С. 369-371.
ность, методов. В реальной историографической практике все эти типы переходят друг в друга, и Мегилл показывает, что каждый из них можно представить как специфический вариант другого.
Говоря о критерии наилучшего объяснения (или типа объяснения), Мегилл дополняет схему Пола Таггарда, насчитывающую три таких критерия - совпадение (чем больше фактов объясняет гипотеза, тем лучше), простота (чем меньше «вспомогательных» гипотез, тем лучше), аналогичность (чем больше данное объяснение схоже с другими объяснениями, истинность которых установлена, тем лучше) - четвёртым, которое он называет абдукцией12 (те объяснения, в которых аргументация идёт от следствия к причине, предпочтительнее тех, где аргументация строится от причины к следствию)13.
Мегилл критикует распространённое среди американской и не только аудитории убеждение в том, что история (историописание) может позволить заново пережить прошлое, что история может быть непосредственной, а целями историографии должны быть идентификация социальных групп, увековечение какого-либо события, прославление безграничных возможностей человека (в тексте - «евангелизация») и развлечение и удовольствие. Он подчёркивает, что такие убеждения нарушают одно из базовых положений историографии - тезис о радикальном разрыве между прошлым и будущим, - а также чреваты идеологизацией (этого термина в книге нет). Американский историк предлагает вспомнить о критической функции истории, которая и сделала из неё академическую дисциплину.
Мегилл критикует распространённые сегодня версии «альтернативной, или воображаемой истории» на том бесспорном основании, что каждая такая версия строится на гораздо большем числе допущений, чем обычная история14 .
Наконец, Мегилл отмечает опасность возникшей в результате развития информационных и коммуникационных технологий (и формируемой ими) иллюзии, будто вся реальность может быть моментально охвачена нами, иллюзии контекста тотальной связанности, или, как мне кажется, иллюзии всеведения, даруемой Интернетом и другими современными технологиями. В этом отношении размышления Мегилла перекликаются с исследованиями феноменологии времени в информационном обществе Томасом Эриксе-
15
ном .
С очень многими наблюдениями Мегилла можно согласиться. Тем не менее, отнюдь не все положения рецензируемой книги выглядят равно обоснованными. Более того, сама работа в целом оставляет много вопросов.
Во-первых, мы не найдём в монографии Мегилла чётко сформулированной теории исторического познания (хотя, возможно, этого и нельзя требовать от сборника статей разных лет). Вместо теории о том, как именно историк приходит к тем или иным выводам, на основании чего он составляет свои суждения, что может повлиять на них и что делает его претензию на познавательную значимость (объективность, по Мегиллу) обоснованной, читатель знакомится с дискуссиями о соотношении истории и памяти в американской философии истории, с очерком истории «школы Анналов», с аналитическими рассуждениями об объективности, превращающимися в своеобразную «историю эпистем» исторической науки, и о многом другом.
Во-вторых, Мегилл часто говорит о том, как должен работать историк. Это в полной мере относится к четырём постулатам исторического познания, упомянутым выше. Но наиболее явно это выражено в крайне спорном положении: «Но всё, что мы хотим и в чём нуждаемся,- это такая историография, которая была бы независима от этических
12 Там же. С. 406, 410-412.
13 Как справедливо отмечает в комментарии М. Кукарцева, употребление этого термина Мегиллом в значении базовой категории логики неверно (с. 477). Но поскольку он даёт номинальное определение термина, постольку в рамках его теории им с оговоркой можно пользоваться.
14 А. Мегилл. Указ. соч. С. 450-457.
15 Т.М. Эриксен. Тирания момента. Время в эпоху информации. М., 2003.
взглядов, доброй воли, политической ориентации и т.п. историка и учёного»16 (курсив А. Мегилла - А.З.).
Можно ли что-то противопоставить этому требованию безличного, надындивидуального историописания? Можно ли принять требование писать историю безотносительно нравственности и точки зрения субъекта? Логически развивая тезис Мегилла, можно быстро прийти к выводу о том, что нельзя критиковать любые явления, считающиеся аморальными - ибо это была бы уже этическая позиция, и результат суждения, т.е. критика, был бы от неё зависим. И можно ли говорить о том, что в такой историографии нуждаемся именно мы? Не выдаёт ли здесь американский историк собственные, а возможно, коллективные предпочтения ряда американских исследователей за универсальное требование ко всем историкам?
Я думаю, ответ скорее положительный. Дело в том, что Мегилл заканчивает обсуждение задач историографии очень примечательным тезисом: «Нельзя согласиться с максимой "всё сгодится!" Скорее нужно придерживаться критического плюрализма, следуя оценочным стандартам, которые соответствуют формам искомого знания»11 (курсив мой - А.З.).
Во-первых, во всей книге читатель не найдёт ответа на вопрос о том, каковы эти оценочные стандарты. Вопрос Чацкого «А судьи кто?» вновь звучит во всей своей силе. Во-вторых, если эти стандарты соответствуют формам искомого знания, резонно поинтересоваться, каковы эти последние. Но и на этот вопрос нет ответа. Едва ли анализ идеальных типов объективности что-то может прояснить: в самом деле, как, например, претензия на полное отражение реальности (абсолютная объективность, по Мегиллу) может обосновать истинность теории, которая её провозглашает? Или как форма нарратива может быть гарантией получения искомого знания, если сам Мегилл указывает на её недостаточность для исторической реконструкции?
Спорными выглядят и размышления Мегилла о критериях наилучшего объяснения (см. выше). Во-первых, против критерия простоты объяснения можно привести много доводов. Если у человека сломалась машина, то очень простым объяснением того, почему это произошло, будет, например, тезис «сломался мотор», который будет допускать существование лишь одной сущности - мотора - и двух его состояний, исправного и неисправного. Но далее нужно установить, что именно в моторе сломалось, а это означает, что мы будем искать уже не одну «сущность», а больше, и таким образом, увеличивается количество вспомогательных гипотез. Если вспомнить физику Аристотеля и сравнить её с физикой Ньютона и тем более Эйнштейна, то станет ясно, что критерий простоты не работает в науке вообще. Возьмём пример падения тела, а точнее, падения человека Х. Самый простой ответ будет состоять в утверждении, что это произошло потому, что он поскользнулся. Этого ответа более чем достаточно в обычной жизненной практике, и едва ли можно вообразить, что кто-то начнёт без особой нужды рассуждать, что человек Х был притянут к центру Земли согласно закону всемирного тяготения. Для интерпретации такого закона нужно отвлечься от всех специфических черт нашего Х и представить его «телом» в физическом смысле слова. А если мы ещё решим рассмотреть этот случай в рамках теории относительности, то нам нужно будет договориться о точке отсчёта, по отношению к которой мы будем устанавливать изменение пространственного положения: если такой будет Земля, то будет можно говорить о падении тела Х на неё под действием гравитации, а если мы возьмём за точку отсчёта самого Х?
Во-вторых, утверждение, что те объяснения, в которых аргументация идёт от следствия к причине, предпочтительнее тех, где аргументация строится от причины к следствию, не очень убедительно. Мегилл с коллегами18 изучает в этой связи вопрос о возможной сексуальной связи президента США Джефферсона с его чернокожей рабыней Салли
16 А. Мегилл. Указ. соч. С. 254.
17 Там же. С. 254.
18 Авторами раздела были также Стивен Шепард и Филипп Хоненбергер.
Хемингс и демонстрирует, что больше фактов можно объяснить, предположив, что эта связь была19. Но ведь фактически здесь есть и дедуктивная аргументация! Рассуждение начинается с того, что перечисляются факты, а точнее некие утверждения, порою противоречащие друг другу. Затем наши авторы формулируют два возможных ответа: «связь была» и «связи не было». Наконец, они допускают, что первый ответ истинен, и начинают рассматривать свидетельства заново. Форма рассуждения такова «Если связь была, то...»
Я вовсе не утверждаю, что здесь нет иных форм рассуждения. Совершенно очевидно, что для формулировки двух ответов, имеющих статус гипотез, необходима индукция -обобщение разрозненных эмпирических данных (или того, что считается данными). По-видимому, мышление работает и индуктивно и дедуктивно, и вопрос о том, что предпочтительнее, скорее закрывает дорогу к познанию многообразного, чем позволяет прийти к какому-то результату.
Возвращаясь к историческому познанию, хотелось бы отметить, что пример, использованный Мегиллом, является скорее исключением, ибо вопрос о том, существовала ли интимная связь между двумя партнёрами, предполагает только два ответа. Мегилл касается других вопросов, которые было бы лучше исследовать для доказательства его положения о критерии «абдукции» (в том значении слова, которое ему придаёт американский историк) - о причинах Великой Французской революции и Второй мировой войны, но на них он даже не пытается отвечать. Конечно, отказ от такого рода исследований лучше согласуется с его «нерешающей диалектикой»; но ясно, что вопросы о причинах этих событий важнее, чем половая жизнь даже столь выдающегося человека, коим был Джефферсон, и возможных ответов здесь гораздо больше, чем два. Поскольку же Мегилл не интерпретировал критерий наилучшего объяснения на таком более сложном материале (вероятно, к нему этот критерий вообще не подходит, хотя этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании), постольку нельзя считать его (критерий) обоснованным вообще - доводы в его пользу строятся на гипотезе ad hoc.
В истории исторической эпистемологии Мегилл, по-видимому, тоже не всегда точен. Трудно согласиться с предъявленной им претензией к Коллингвуду, что тот в исследовании исторического свидетельства на примере убийства шантажиста Джона Доу свя-20
щенником «полностью замалчивает ту травму, которая. разрушила семью священника. он пропускает всю культурную историю семейства»21 (курсив Мегилла - А.З.). В этой связи закономерным будет поинтересоваться: а почему Коллингвуд должен был исследовать травму семейства священника, который и оказался убийцей, если его целью был ответ на совершенно другой вопрос «Кто убил Джона Доу?»? Нельзя не отметить и того, что здесь Мегилл нарушает собственный критерий наилучшего объяснения: в самом деле, вопрос о причине убийства находит очень простой ответ - желание избежать шантажа, в то время как допущение травмы в семье священника увеличивает число гипотез, необходимых для объяснения22.
Ещё одна важная проблема - это вопрос об историческом мире в трактовке Кол-лингвуда и Мегилла. Американский историк пишет, что утверждение Коллингвуда о существовании «только одного исторического мира» некорректно, хотя и выражает одну из интеллектуальных установок историков23. Резонно поинтересоваться, а сколько же тогда исторических миров и, если их много, о чём могут спорить историки - ведь они могут утверждать, что конструируемые ими миры попросту несоизмеримы?
19 А. Мегилл. Указ. соч. С. 392-437.
20 Р.Дж. Коллингвуд. Указ. соч. С. 253-264.
21 А. Мегилл. Указ. соч. С. 162.
22 Стоит напомнить, что рассказанная Коллингвудом история целиком вымышлена для удобства изучения роли свидетельства в историографии. Поэтому рассмотрение её как реальной (так делает Мегилл) и тем более дополнительные штрихи к ней оказываются всё новыми и новыми допущениями и гипотезами ad hoc.
23 А. Мегилл. Указ. соч. С. 309.
Думается, теория Коллингвуда о существовании единственного исторического мира нуждается в объяснении и обосновании. Великий философ истории писал о нём в следующем контексте:
«...всякая история должна быть непротиворечивой. Чисто воображаемые миры не могут вступать в противоречие друг с другом. Каждый из них - мир в себе. Но имеется только один исторический мир, и всё в нём должно находиться в определённом отношении к чему-то другому, даже если это отношение является только топографическим и
24
хронологическим» .
Уже лексика цитированного высказывания напоминает сочинения Канта, и, действительно, теория априорного исторического воображения, созданная Коллингвудом, есть одно из наиболее значимых приложений кантовой трансцендентальной философии к конкретной области знания. Но нужно дополнить эти рассуждения Коллингвуда его же тезисом о том, что критерием исторической истины оказывается идея самой истории, идея воображаемой картины прошлого, которую можно назвать априорной или врождённой иде-
-25
ей .
Таким образом, исторический мир, о котором говорит Коллингвуд, это трансцендентальный объект кантовской теории познания, коррелят единства апперцепции многообразного в чувственном созерцании. То, что можно мыслить разные картины мира, это верно, и Коллингвуд об этом знал, иначе не писал бы о «чисто воображаемых мирах». Но эта оговорка «чисто воображаемые» крайне показательна: конструируемые историками картины прошлого оказываются, по крайней мере, частично не воображаемыми. То, что нам никогда не удастся достичь полной согласованности этих разных картин мира, в том числе прошлого, не отменяет того, что эти картины должны отсылать к некоему субстрату - миру, который и позволяет говорить о них именно как о его картинах. Без допущения реальности, единой реальности, интерпретации которой могут быть различны, но на которую всегда проецируются в той или иной степени, мы не можем избежать «скандала в философии» и крайнего субъективизма.
В пререводе книги Мегилла есть и иные спорные, а то и ошибочные моменты. Так, на с. 387 английский термин understanding применительно к Канту передан как понимание, тогда как это, конечно, рассудок (Verstand). Трактат Канта «Спор факультетов» на с. 276-277 датирован почему-то 1795-м г., тогда как должен быть 1798.
Не украшают издание многочисленные опечатки. Приведу два примера. Имя испанского короля Филиппа II пишется только с одной буквой «п» (с. 322-323), имя французского историка Э. Ле Руа Ладюри пишется вообще по-разному: то ле Руа Ладюри (с. 61), то Леи Рой Ладюри (с. 64), то Ле Руа Ладюри (с. 326).
Подведём итоги. Монография А. Мегилла содержит крайне любопытный материал для концептуального анализа и дискуссий. Несмотря на несогласие с автором по ряду вопросов, нельзя не признать его вклада в развитие теоретической мысли историков. Одним из априори исторического познания предстаёт понятие единого исторического мира, выступающего трансцендентальным объектом познания и одновременно референцией для любой исторической реконструкции прошлого26.
24 Р.Дж. Коллингвуд. Указ. соч. С. 234-235.
25 Там же. С. 237.
26 Обсуждение концепции А. Мегилла см.: Эпистемология & философия науки. № 1. Т. XV. 2008. С. 53-82. -Прим. ред.





 CC BY
CC BY 93
93